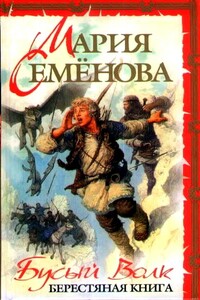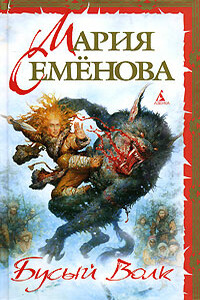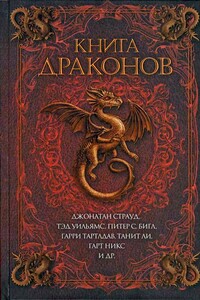Сила меча | страница 108
Я и раньше пытался рисовать Любу, но получалось плохо. Когда занимался в художественной школе, педагоги утверждали, что у меня редкий талант, умение передать в рисунке не только внешнюю сторону натуры, но и её душу, внутренний мир. Но рисовать Любу по памяти у меня не получалось никак (а попросить её позировать я, естественно, не мог отважиться). Вернее, что-то получалось, но это была не Люба, какая-то внешне очень похожая на неё, но совсем другая девочка, и я безжалостно рвал те рисунки.
Теперь, когда что-то изменилось, что-то произошло со мной или с миром вокруг меня, рисунки Любы стали у меня получаться.
Мне теперь не нужна была натура. Достаточно было взять в руки боккен, вглядеться в глубь Камня, представить там Любу, и её образ вставал передо мной во всех деталях и подробностях. Живой образ. Эта воображаемая Люба (в отличие от настоящей) разговаривала со мной, шутила, смеялась, иногда слегка грустила, всё это – очень по-хорошему, по-доброму. Она была чистой и открытой, трогательно доверчивой со мной. И такой же она была на моих рисунках. Никогда у меня до этого не получались такие рисунки. Если бы эти рисунки увидел кто-нибудь из моих прежних педагогов! Боюсь, у него случилась бы истерика от восторга. У меня самого перехватывало дыхание, сердце болезненно сжималось от нежности, когда я смотрел на мною же нарисованную Любу.
Но я никому не решался показать эти рисунки. Никому.
Это было как сатори, о котором, по словам Олега, невозможно кому-то рассказать. Когда я рисовал Любу, а потом смотрел и не мог насмотреться на эти рисунки, я испытывал совершенно непередаваемый словами щемящий восторг, сладкую тоску, горькое ликование…
Потом звонил в дверь забежавший после школы Сашка, я торопливо прятал рисунки и шёл открывать.
Но Сашка – это Сашка. Он знает меня едва ли не лучше, чем я сам… И однажды, открыв Сашке дверь, я увидел рядом с ним и Любу.
Мой друг хотел тут же убежать, оставив нас наедине, но я взглянул на него с таким испугом, что он сразу всё понял и остался. И благодаря Сашке мы втроём долго и непринуждённо болтали о чём-то, даже я что-то такое остроумное говорил, хотя совершенно не помню, что именно. И Люба смеялась над моими остротами и смотрела на меня почти так же хорошо, так же доверчиво и весело, как и в моих грёзах за мольбертом. А Лапушка благосклонно взирала на нас с высоты холодильника и умиротворённо мурлыкала, она явно ничего не имела против появления в нашей квартире Любы.