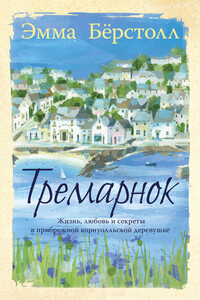Трудный возраст (Зона вечной мерзлоты) | страница 6
Лицо отца было застывшее, белое, казалось, он разучился говорить.
— Ничего, — наконец выдавил он из себя, и в их комнате повисло тягостное долгое молчание. Я был уверен, что отец хотел прибавить что-то еще, видимо, очень грубое, но сдержался и сказал примирительно, с хладнокровным отчаянием пьяного человека: “Так нельзя, Рита”.
— А как можно? — победоносно-язвительно спросила мать. — Ты мне всю кровь выпил, — и пошло-поехало по уже проторенному сценарию.
Не знаю, что происходило в их комнате, но отчетливо помню, что отец просил у нее прощения. После этого случая мать полностью взяла власть в свои руки. Отец стал молчаливым приложением в нашей квартире, как мебель, картины, хрусталь. Было такое чувство, что мать окончательно сломала его в ту ночь. Наложило это отпечаток и на наши взаимоотношения.
О том, что я не родной сын своим родителям, я узнал случайно. Любопытство не только двигатель науки (эту фразу уже сказал до меня какой-то гомо сапиенс со светлыми мозгами) — любопытство еще и порок. Но что любопытство может коренным образом изменить мою жизнь, — эту истину я для себя тогда открыл впервые. Мне было неполных двенадцать, когда я узнал семейную тайну, которую от меня тщательно скрывали. Определенные намеки существовали. В доме не было ни одной моей детской фотографии до пяти лет, мать на мои расспросы отвечала, что все сгорело в бабкином доме. Иногда до моих ушей доносились соседские тихие шепотки, что я внешне не похож ни на одного из своих родителей. Я пристально и болезненно всматривался в фотографии и действительно не находил сходства, и тогда мать доказывала мне, что я очень похож на дядю Ваню в детстве, и я ей верил.
И вот я случайно нашел бумагу, в которой четко и с печатью было прописано: я никакой не Тихомиров. Мне казалось, что на меня в одночасье свалилось небо и бог знает что еще. Столбняк длился долго.
О том, что я усыновленный, рассказал только своему верному другу Эллу. Он сначала подумал, что я вешаю ему на уши лапшу, но когда прочитал бумагу, притих.
— И что, Тихий, ты теперь будешь делать? — испуганно спросил он меня.
— Молчать и делать вид, что ничего не знаю, и ты — могила, — предупредил я Элла.
Серьезные трения с родителями у меня начались, как только я пошел в школу, — мы все ее называли Пентагоном. Матерью сразу был поставлен убийственный ультиматум: “Евгений, ты не имеешь права испортить учебой марку нашей семьи!” — с апломбом закончила она, и отец ее поддержал. В начальной школе все шло гладко, я был отличником. К седьмому классу я усвоил главную школьную истину: быть “отличником” — значит раздражать этим всех в классе, быть “троечником” — раздражать родителей. Оставалась золотая середина. Возрастающее с каждым учебным годом количество “четверок” не просто огорчало моих родителей — оно их активно нервировало, особенно мать. За малейшую провинность меня стали пороть как сидорову козу, при этом нравоучительно воспитывая: “Ты своими оценками позоришь нашу фамилию…”