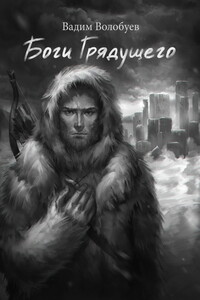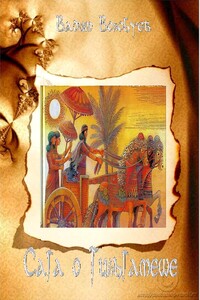Агент его Величества | страница 74
Гражданская война создаёт удивительные парадоксы. Люди одной крови, одной культуры, находясь в разных лагерях, поддерживают боевой дух одними и теми же песнями, в которых даже слова зачастую звучат те же самые. Семён Родионович и не догадывался, что пока он стоял на нью-йоркской улице, наслаждаясь грустными напевами, где-то в Юте то же самое пели сейчас конфедераты, державшие в плену посланца адмирала Попова. А посланец, сидя на горячей земле, тоже не подозревал, что песня, которую он слушал, неощутимо звучала сейчас на всём пространстве от океана до океана, связывая незримыми нитями всех людей, сошедшихся в смертельной схватке.
Наконец, эта песня затихла, но в ушах ещё долго стоял её мотив. Какой-то нечеловеческий вопль слышался в ней; вся печаль войны, отчаяние вдов и матерей, боль от утраты близких сквозили в незамысловатой мелодии. Догорали костры, солдаты разошлись по палаткам и фургонам, а Чихрадзе всё сидел на медленно остывающей земле и мычал себе под нос дивные звуки. Он вспомнил родное село, вспомнил стариков, выводящих тягучую грузинскую балладу, и джигитов, гарцующих на конях. Вспомнил слёзы соседки, получившей похоронку на сына, погибшего где-то на Дунае в войне с турками. Вспомнил поминки и бесконечно тоскливый голос батюшки, читавшего заупокойную молитву. Все эти картины прошлого, уже изрядно потускневшие, вдруг опять вспыхнули перед его внутренним взором, заставив мучительно сжать зубы от пронзившей его грусти.
Он вдруг остро ощутил своё одиночество. Его окружали чужие люди, говорившие на непонятном языке, кругом полыхала война, товарищи были далеко, а единственный спутник догнивал где-то на восточных склонах Сьерра-Невады. Предательское уныние заполнило его душу, он боролся с ним, но тоска возвращалась снова и снова. «Что же дальше? – думал в каком-то отчаянии Чихрадзе. – Неужто я больше не увижу дома?». Сам по себе этот факт не слишком удручал его – он и так большую часть жизни провёл вдали от родины. Плохо было другое – сослуживцы могли посчитать его дезертиром. Носить клеймо предателя было невыносимо.