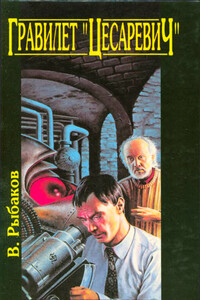Хольм ван Зайчик как зеркало русского консерватизма | страница 12
А вот понятие «справедливости» существовало в Китае спокон веку, ему посвящены были целые трактаты. Это было ключевое представление культуры, одна из основных ее опор. Иероглиф «и» был одним из любимых у каллиграфов; на протяжении столетий его рисовали то тем почерком, то этим, то на каменных стелах, то на полотнищах, которые вешали затем в красном углу кабинетов ученых и министров. И мог он значить, помимо «справедливости» — «долг», «честность», «верность», «непоколебимость», «героизм».
Так что и по этому важнейшему параметру российская культура оказывается куда ближе китайской, нежели европейской. Мимо чего мы, разумеется, никак не могли пройти. Ни разу персонажи ван Зайчика, насколько я помню, не боролись просто за свободу. Но всегда — за справедливость. И если за свободу — то лишь затем, чтобы удалить преграды для осуществления справедливости. Потому что ордусское общество для нас — прогрессивнее современного российского; прогрессивнее как раз оттого, что по этому параметру куда консервативнее него. Но в рамках европейской сетки ценностей — оно именно по той же самой причине характеризуется, как говорят, «махровой» реакционностью. То, что и в Китае, и в России уровень справедливости есть мерило прогресса, дало нам поразительную возможность, пользуясь китайскими образами и потому не мудрствуя и не читая никому моралите, создавать концентрированные буффонады и с их помощью показывать наше отношение к процессам, происходящим со справедливостью у нас.
Конечно, мы не были идиотами и прекрасно отдавали себе отчет в том, какие опасности могут подстерегать человека и общество на путях осуществления справедливости. Последняя и, на мой взгляд, лучшая книга «Евразийской симфонии» — «Дело непогашенной луны» — посвящена именно этим опасностям. Мой главный герой, Богдан, в разговоре с одним из эпизодических персонажей назвал свою задачу «разминированием идеалов». Разумеется, в одной книге невозможно исчерпывающе проанализировать проблему, над которой человечество бьется уже несколько тысячелетий. Мы и не пытались. Но, по-моему, нам удалось показать, что, во всяком случае, нельзя даже из самых лучших побуждений, даже будучи сугубо порядочным, добрым и честным человеком, пытаться навязать обществу личное, придуманное, противоречащее культурной традиции представление о справедливости. Даже если оно со строго теоретической точки зрения и впрямь может казаться в чем-то лучше, последствия такого навязывания непременно окажутся трагическими. И прежде всего — для самого справедливца. Раз за разом сталкиваясь с общественным непониманием и отторжением его идей, кажущихся ему такими правильными, такими благими, такими бесспорными, он постепенно, сам того не замечая, непременно станет из доброго идеалиста-спасителя злобным маньяком, фанатичным угнетателем, ненавидящим все нормальное, общепринятое. Самые массовые, самые дикие вспышки произвола и насилия возникают, когда справедливцы принадлежат к иной культурной традиции, чем те, кого они пытаются принудить жить по справедливости.