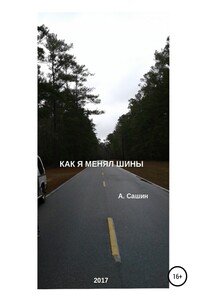Поцелуй Арлекина | страница 42
Лишь только Мальбрук соберется в поход,
Как тотчас на улице дождик идет.
Господь не пускает Мальбрука на сечь:
Доспехи ржавеют, их нужно беречь —
и проч., и проч. в том же роде. Я начинал злиться, искусывать перо, а это дурной знак. Дедусь смотрел на меня с сожалением. Чтоб отмстить ему за это сожаление (поэты – опять же, как и женщины, – принимают его с ненавистью), я выудил откуда-то старую дедову тетрадь с водевилем по-малоросски, сочиненным им чуть не в первые годы века, и вскоре уж потчевал его, тайно ликуя, таким вот диалогом:
Петро
(забирая уздцы)
А пани – прелесть. Но для лада
Был ли вельможный пан востер?
Пан Гуан
Ученость – чепуха, бравада!
Улыбка, два веселых взгляда —
Вот сила; ну да разговор
Там закипел, и вышел спор.
А мне-то что! Удар, награда —
О них ни слова. Впрочем, вздор:
Вот слушай…
(Шепчет.)
Петро
Боже! Под надзор?!
Опять изгнание, быть может?
Пан Гуан
О том ли речь, когда уложит
Тебя красавица с собой?
Она – иль шпага, милый мой!
Петро
Вы жизнью, пан, не дорожите!
И чем живете-то, скажите!
Пан Гуан
Тем, что сейчас я жив-здоров.
Ну, хватит споров, философ!
Ступай-ка да готовь перину,
Не то как раз подставишь спину:
Тебе обычай мой знаком.
Петро
Ах, что за жизнь под кулаком!
(Уходит.)
К удивлению моему и веселой досаде, дедусь нисколько не смутился, услыхав вирши, а даже сам рассмеялся и вместе задумался.
– Да-а… – протянул он, что в его случае означало пролог к новому воспоминанию. Я навострил уши. – Знаешь тот дом, что против фуникулера, на Подоле? – спросил он. – Там теперь какой-то пассаж и, кажется, кино. А раньше был паноптикум.
Я знал.
– Ага, – кивнул он. – Там была устроена панорама Бородина: во всю ширь, с нарисованным горизонтом, редутом вблизи, с куклами солдат и с галереей для зрителей. Вот я туда ходил.
– На Бородино смотреть? – изумился я.
– Что ж на него смотреть! – Он хитро улыбнулся. – Нет. А была у хозяина дочка: там точно было на что подывытысь.
– И ты ходил?
– Где ж там я – весь Киев ходил. Он на ней больше денег заработал, чем на своем редуте; а за вход брал пятнадцать копеек. В ту пору это были хорошие деньги. Вон ты Мицкевича переводишь, а он стоил двадцать – виноват, двадцать пять копеек, и был не дешевой книгой.
Я невольно глянул в конец: так и есть: «двадцать пять копекь» было подчеркнуто двумя линиями, а снизу синела не то выцветшая печать магазина, не то герб прежнего хозяина да две-три строки уже выцветшими чернилами по-польски, вовсе неразборчивые. Я с восхищением воззрился на деда. Он между тем продолжал, как ни в чем не бывало: