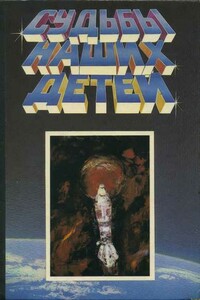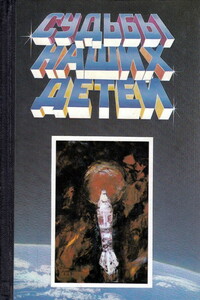Любовь... любовь? | страница 130
И все же, как бы там ни было, а вон он сидит, старый и одинокий, и небось без гроша в кармане, и, когда я на него гляжу, у меня внутри все ноет от жалости, и никуда от этого не денешься.
— На кого это ты все время смотришь? — спрашивает Ингрид, которая следит за мной.
— Ни на кого. Просто гляжу, и все. Просто моя голова повернута в ту сторону.
— Ты что, боишься встретить кого-нибудь из знакомых?
— Почему я должен бояться?
— Мне иногда кажется, что ты стыдишься появляться со мной, — говорит она, опуская глаза в чашку.
— Почему я должен стыдиться? — говорю и чувствую, как пылает у меня лицо.
Она пожимает плечами.
— Не знаю. Просто мне так кажется порой.
Я концом спички развожу из пролитого кофе на столе узоры, а она отворачивается и смотрит по сторонам.
— Ну вот, — говорит она, помолчав,— ты теперь стал совершеннолетним. Как ты себя при этом чувствуешь?
Я смеюсь.
— Спроси меня что-нибудь полегче.
— Ты получил хорошие подарки?
Протягиваю руку над столом, показываю ей часы.
— Отец и мать подарили. Сила, верно?
Она берет мою руку, поворачивает так, чтобы получше рассмотреть часы.
— Прелесть, какие часики... А что ещё тебе подарили?
— Ну, Джим купил мне галстук, Крис и Дэвид — сборник детективных рассказов и долгоиграющую пластинку — Шестую, патетическую, симфонию Чайковского.
— Ишь ты! — говорит она и подымает брови. — Вот мы какие стали высококультурные!
Меня злит неимоверно. Она ведь совершенно уверена, что всякие модные тявканья и завывания — высшее достижение музыкальной культуры.
— А что в этом плохого? — спрашиваю. — Эта симфония была написана, чтобы доставить людям удовольствие, не так ли? Так что плохого, если она мне нравится?
— O, ровным счетом ничего. Просто очень многие делают вид, что любят всякие такие вещи, потому что воображают будто они от этого становятся личностью.
— Ты же знаешь, что на меня это непохоже.
Она пожимает плечами.
— Ну если тебе это нравится — на здоровье. А я этих симфоний терпеть не могу. Я люблю, чтоб была мелодия.
— Но там же полно мелодий, — говорю я. — У Чайковского столько мелодий, что... — Я умолкаю. Какого черта буду я оправдываться, если мне нравится что-то действительно стоящее, а не последний предмет всеобщего помешательства из ансамбля Свистозвоногромопляски — какой-нибудь чудо-мальчик, который пробрался на экраны телевизоров, потому что ему посчастливилось обзавестись клетчатой рубахой, гитарой и изрядной долей нахальства!