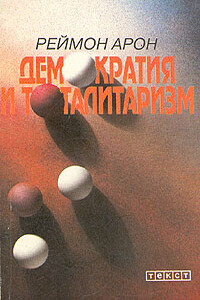Мемуары. 50 лет размышлений о политике | страница 6
Раймон Арон использовал «смешение наук» во многих книгах. Так, в работе «Политические исследования» (1972) введение — «Наука и общественное сознание» — касается социологии; первая часть — «Идеи», сосредоточивается на философии; вторая — «Внутри государства» — относится сначала к политической философии, а затем переходит к вопросам политологии в целом и к ее частному приложению — Франции; и наконец, третья часть — «Между государствами» — разбирает вопросы мировой стратегии. Единство этой книги могло показаться искусственным, если бы ее не пронизывала общность научного поиска и проблематики. Автор не прекращает задавать себе один и тот же вопрос — от определений, приведенных на первых страницах, до выводов на последней: что же разделяет, одновременно объединяя, граждан в государства и государства между собой?
В статье «Последний из либералов» Ален Блоом пишет, что «либерализм Арона того же рода, что и у Локка, Монтеня, Джона Стюарта Милля и, в определенной мере, Токвилля»[6]. Осторожное сравнение с Токвиллем объясняется молчанием Арона по поводу исчезновения (по крайней мере с французской политической сцены) аристократии, хотя Арон неоднократно высказывался в защиту элитарных слоев общества, подчеркивая их значение. Как заметил Ассан Ажерар в 1984 г., учение Арона должно пониматься как радикальный плюрализм: историчность в нем достигает определенной объективности лишь в полицентрическом мире.
Раймон Арон много и разнообразно высказывался на тему свободы. На страницах «Мемуаров» мы находим анализ его критического исследования «Либеральное определение свободы»[7], посвященное книге Ф. Хайека «Конституция свободы»[8]. Ф. Хайек видел в свободе отсутствие принуждения, способное породить права и выраженное через общность законов, равных для управляющих и управляемых, которые должны быть членами одного и того же политического сообщества. Арон соглашается с такой позицией, но, говоря о критериях свободы, дополняет: «…ни один (из критериев), сам по себе не может быть решающим, но все вместе предполагают идеал общества, где государство оставило бы индивидуальным инициативам наибольшее из возможных полей действия…» Арон усиливает значимость своих замечаний, опасаясь, что в процессе мондиализации из желания преодолеть сразу же или, по крайней мере, быстро суверенность государств-наций возникнет опасность тирании — ограничение свободы одним мировым лидером.
Выбор в пользу либерализма неотделим от эпистемологического анализа, так как анализ познания и ценностный выбор происходят из одного источника. Вовлеченность слушателя уже филигранно вписывается в ароновскую критику, ограничивающую объективность какой-либо точки зрения. Наверно, в этом и заключается объяснение его удивительной карьеры, в продолжение которой на свет появились теоретические труды, социологические исследования, работы по современной истории: их связывает и одухотворяет одна цель. И как бы ни складывалась жизнь философа, он продолжает свое исследование.