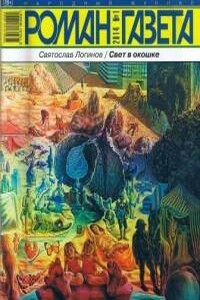Начало жизни | страница 113
— Нет, это тебе скажет Ищенко, — отвечает она на мой вопрос.
— Ищенко? — удивляюсь я. — Я с ним никогда дела не имел.
— Да, Ищенко. Он был в Харькове на партийной конференции и привез тебе привет.
— Мне?
— Тебе.
— И велел мне прийти?!
— Сегодня же.
Но после занятий, когда я собрался было бежать к Ищенко, Голда остановила меня, заявив, что партком уже все равно закрыт, и попросила меня задержаться в школе.
— Что ты там будешь делать, дома? Дедушка болен… — говорит она.
— Не болен, — отвечаю я. — Ему только хочется тарани и он плачет по умершей бабушке.
— Что ты такое болтаешь, — говорит она и глядит сначала на мои запыленные ботинки, потом на штаны, на рубаху. И вот уже она глядит мне в глаза. — Что ты болтаешь?
Пришлось согласиться на предложение Голды и задержаться. Она попросила меня помочь ей перекладывать книги в учительской. А когда мы сложили их, ей вдруг вздумалось нарвать цветов. Домой я поэтому отправился, когда стало темнеть. Верней, я просто сбежал от Голды.
Никогда не шел я домой таким веселым. За тесьму фуражки я насовал сирени, в руках у меня была настурция. Меня не смущало даже нахмурившееся небо. Белые курчавые облака там сгустились, стали темно-бурыми и наполнили воздух какой-то гнетущей тишиной. Две запоздалые коровы, поднимая пыль, медленно плелись песчаной дорогой; они тоскливо мычали, вытягивая шеи и поднимая кверху морды.
Но мне было весело. Я прижимал пальцами глазное яблоко и наблюдал за тем, как первые огни в домах бьют пучками красных нитей из окон. А когда заболели глаза, я принялся свистеть.
Однако не успел я показаться на нашей улице, как все уставились на меня. Откуда-то появился мой длинноногий дядя Менаше, у которого полтора волоса в бороде. Он вытаращил на меня глаза и остановился.
— Бездельник! Чтоб ты пропал! — крикнул он и смачно плюнул мне вслед.
«Это, видно, оттого, что у меня на фуражке сирень и я свищу», — подумал я и стал свистеть еще громче. Но чем сильней я свистел, тем больше глазели на меня.
А возле нашего дома я увидел старую Хаю-Сору. Было душно, а она напялила на себя толстую шерстяную шаль.
— Боже мой! — всплеснула она руками. — Такой праведник!.. И умирает! Твой дедушка умирает!
Я швырнул наземь цветы и кинулся к дому. Предо мной расступились, даже открыли мне двери.
В комнате у нас полутьма. Стекло, видно, разбили, и лампа мигает и чадит. Мама лежит, уткнувшись лицом в подушки. Вокруг нее сидят женщины. Время от времени она поднимает голову и спрашивает: