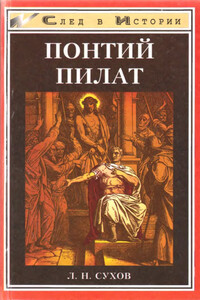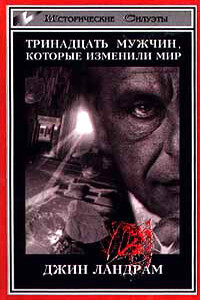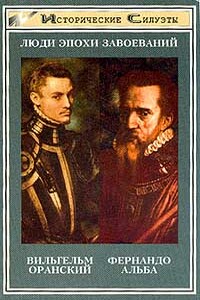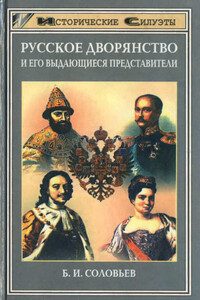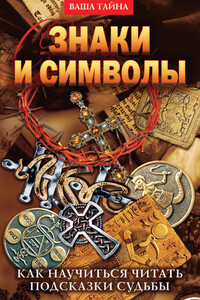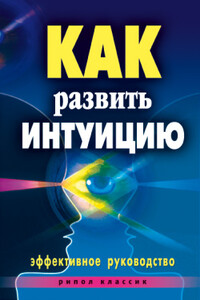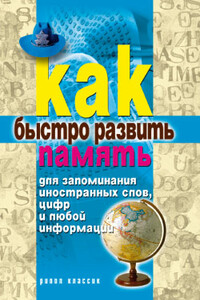Братья Орловы | страница 48
Возможно, Григорий совершил самую большую ошибку в своей жизни: ему полагалось как главе российской делегации задержаться в Яссах и вновь подключиться к делу мира, едва турки заговорят о возобновлении перемирия, а пока суд да дело, помогать Румянцеву в устрашении Порты, то есть опустошая с его войсками Молдавию и Валахию. Того требовала императрица и здравый смысл. Но Г. Орлов не задержался в ставке Румянцева; прослышав, что в Санкт-Петербурге появился претендент на его место в сердце Екатерины — А.С. Васильчиков, он ринулся туда, забыв о возложенной на него миссии. Возобновившиеся в Бухаресте переговоры вел теперь один Обрезков, которому «препоручалось извлечь отечество из… жестокого кризиса». Ему отныне предписывалась новая линия поведения: начинать переговоры не с татар, а с других частных моментов, уступая то тут, то там, и в конце концов выбить таки решение татарского вопроса. Но и осенние переговоры в Бухаресте провалились. Интересно, что Панин и тут умудрился списать все на уехавшего Орлова, но тому имеются оправдания. Одно — Екатеринино, которая никогда не винила Григория в разрыве перемирия с Портой; второе — возможно, даже более авторитетное, так как человек, высказавший его, является, во-первых, одним из выдающихся отечественных историков, во-вторых, имеет возможность судить со стороны, принимая во внимание не только сиюминутные поступки, но и последующие события.
Итак, С.М. Соловьев пишет, безоговорочно оправдывая Григория Орлова: «Разумеется, только страшная вражда к Орлову заставила Панина обвинять последнего в разрыве Фокшанского конгресса, и было слишком наивно думать, что, переставивши порядок статей, можно было достигнуть успеха в переговорах… Лучшим оправданием Орлову служил неуспех и Бухарестского конгресса, где вел переговоры один Обрезков, и непрочность Кучук-Кайнарджийского мира — все благодаря статье о независимости татар, которую в Константинополе никак не могли переварить»>{48}.
Что же до татар, о вольности которых заботилась Россия, то они вовсе не считали себя чем-либо обязанными Екатерине Великой и ее армии: никакого притеснения от Порты они не видели; да, султан назначал ханов, но он же платил им деньги. Каждая орда представляла собой вольницу, в которой предводитель требовался лишь на время войн, тогда как Россия требовала от татар преданности, помощи в войнах и прекращения набегов на русские селения, которые были основным источником дохода крымцев. Иными словами, татары не горели желанием сменить подчинение туркам, с которыми их связывала вера и обычаи, на извечных противников своих, русских. Хотя Шагин-Гирей, брат крымского хана, «чрезвычайно умный и желающий образовать себя» молодой человек, гостил в Петербурге да в Москве, тратя массу денег, выделенных на его содержание императрицей (он получил в дар по приезде 5000 рублей, дорогую шубу и европейского покроя одежду, а при отъезде — дорогую саблю с драгоценными камнями и еще денег в подарок и на уплату наделанных долгов; каждый день ему выделялось по 100 рублей), хан Сагиб-Гирей вел тайком переговоры с Константинополем, прося прислать флот на помощь против России, отклонил подарки, присланные ему с генералом князем Щербининым, которые воспринял как знак повиновения.