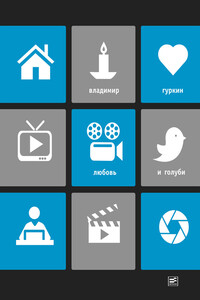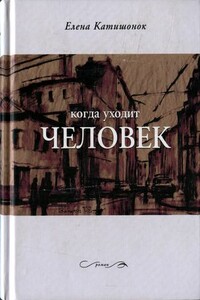Свободная любовь | страница 49
– Мы видим их в телевизоре ежедневно…
– Это и есть оно самое. Как в нашей последнее премьере говорится: слишком много карнавала, танцуют все, кроме тех, кому не до танцев. Я из второй категории. Мне не до танцев. А танцуют все – и телевидение, и фестивали, непрерывный праздник, непрерывный смех, все непрерывно, конвейер, конвейер. Он стал для меня физиологически трудно выносимым, как слишком громкая музыка… В «Игроках» – было общественное высказывание нового, что я умею. Я прожил перед этим довольно долго во Франции, работал там. А вернувшись в свою страну, которой гордился, что она поворачивается, увидел все чуть-чуть другим глазом, потому что глаз уже по-другому привык, ухо к другому прислушалось, чуть со стороны. Со стороны – острее.
– Считается, что ты актер перевоплощения, ты замечательно перевоплощаешься, начиная, я бы сказала, с твоей визитной карточки – роли Остапа Бендера и кончая, допустим, ролью Сталина. Перевоплощение – это человек отходит от себя и перевоплощается в другую персону. А от какого себя ты отходишь?
– Самое трудное в жизни – это самопознание. Я перепробовал многих людей, причем совсем других возрастов, чем был я, совсем другого психологического склада, прежде чем начал разбираться в себе. В принципе я просто убегал от себя, такого, с которым мне было не так интересно. Мне гораздо интереснее было с другими людьми, которых я играл.
– И которых писал. Мне страшно нравился фильм «Чернов/Chernov», где ты и сценарист и режиссер, а в главной роли Андрей Смирнов.
– Спасибо.
– Абсолютно и сейчас живая картина, и эстетически, и по мысли, по драматизму, по всему строю. Очень жаль, что ты ничего больше в таком духе не делал. А скажи, чем для тебя мотивировано творчество? Люди или хотят убежать от себя, или хотят прославиться. Какой стимул писать? Какой стимул играть?
– Если очень высоко сказать, то это узнать, угадать будущее и выразить его для тех, к кому обращаешься. Я всегда полагал, что смысл театра очень высок. В какой-то степени это пророческий смысл, мы упреждаем, даем надежду. Потом моя точка зрения несколько изменилась. И формулировка изменилась. В 70–80-е годы я стал думать, что смысл театра – это разъединить людей.
– Не объединить, а разъединить?!
– Да. Оставить в одиночестве. Причем оставить в одиночестве не в квартире, как это делают Интернет и телевидение, дескать, я общаюсь тут с миром… Нет, люди сидят в зале, но остаются один на один с тем, что предлагает сцена. Сцена их разъединяет. И счастье, когда это разъединение приводит к некоему мгновенному пониманию, и это помощнее, чем компьютер. Когда что-то вызывает твой смех, и ты слышишь, что еще смеются рядом, – это большое событие. А если ты смеешься один, не можешь удержаться от смешка, а рядом никто не смеется, – это тоже большое событие. То есть все равно высокое служение. Сейчас я меньше на это надеюсь, потому что изменился театр и изменился зритель. Отголоски того, что было, в некоей субстанции, которая вечна в театральном мире. Она еще теплится, хотя погружена в массу карнавала, в котором все фальшиво. Бескорыстные люди, которые смеются и обсуждают что-то в телевизоре, – это оплаченные люди. Восторженная толпа, которая хлопает и вскакивает, – всё управляется, и все в масках.