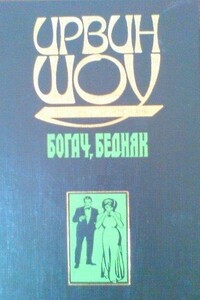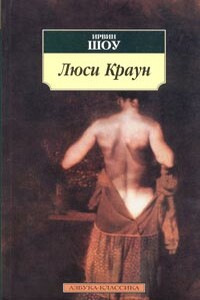Допустимые потери | страница 57
Больше всего в поэзии Фитцджеральд преклонялся перед Вильямом Балтером Йетсом, и когда они в составе конвоя пересекали Атлантику, он, стоя на носу «Либерти», медленно разрезавшего волны, произносил торжественные поэтические строки. Он читал «Плавание в Византию», словно специально обращаясь к ночи, когда казалось, что опасность им больше не угрожает и море было спокойным. Деймон слышал эти строки так часто, что даже сейчас, сидя в баре на Шестой авеню, мог произносить их с ирландским акцентом Фитцджеральда.
Деймон неслышно шептал их, так как не хотел, чтобы другие посетители бара решили, что он сошел с ума, разговаривая вслух.
Фитцджеральд всхлипывал, дойдя до конца первой строфы, и Деймон, вспоминая эти минуты, чувствовал слезы на своих глазах.
Казалось, что Фитцджеральд знал всего Шекспира наизусть, и в ночи полнолуния, когда вытянувшийся в линию конвой представлял собой прекрасную цель для волчьих стай подлодок, он с вызывающей смелостью читал монолог Гамлета при первом появлении Фортинбраса:
И как-то ночью, сразу же после этого монолога, судно из их конвоя было торпедировано. Корабль разломился, взорвавшись, и они в немом отчаянии наблюдали пламя и огромный столб освещенного дыма, когда судно погибало. В первый раз они увидели гибель корабля из их конвоя, и Фитцджеральд, помрачнев, сказал тихим голосом:
— Друг мой, все мы не более чем яичная скорлупа, и сегодня вечером будь прокляты все мысли о морских пучинах.
Затем, поняв, что цитирует из «Бури», он иронически продолжил: