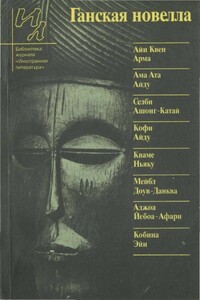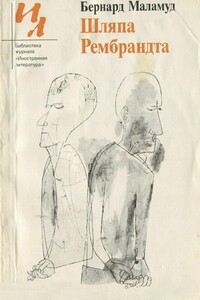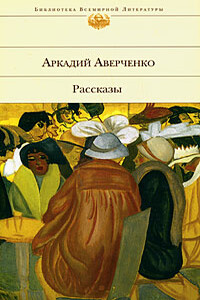Дождь | страница 49
— Ты помнишь Касике, Хесусо? Бедненький!
Образ старого верного пса всплыл в памяти обоих. Горькое чувство сблизило стариков.
— Ка-си-ке… — произнес Хесусо, будто читая по складам. Мальчик обернулся, чистым прямым взглядом уставился в лицо старика. Хесусо перевел глаза на жену, удивленные, испуганные, оба улыбнулись.
День разгорался, высветляя образ ребенка, уже внедренный в жизнь семьи, в жизнь дома. Земля, по которой шагал мальчик, смуглела, как его кожа, короткие тени оживали и светились в его глазах. Все понемногу меняло обычные места, сосредоточивалось вокруг мальчика. И старики чувствовали: руки легко скользят по лоснящейся поверхности стола, ноги без труда переступают порог, тело удобно располагается в кожаном кресле, все движения стали быстрыми и точными.
Хесусо, веселый, взволнованный, снова отправился на участок; Усебия занялась хозяйством; теперь она не одна, с ней рядом — нежданный гость. Она помешивала в кастрюле, стоявшей на очаге, входила, выходила, что-то приносила — готовила обед. А сама то и дело украдкой, искоса поглядывала на мальчика.
Он сидел спокойно, зажав руки между коленями, опустив голову, слегка притопывал; и вот оттуда, где он сидел, послышался свист, тоненький, одинокий, странный. Женщина спросила, как бы ни к кому не обращаясь:
— Это что же за сверчок у нас завелся?
Может быть, она сказала это слишком тихо, и он не расслышал, потому что ничего не ответил, но свист стал громче, веселее, походил теперь на ликующую птичью песнь.
— Касике! — окликнула она вкрадчиво, чуть ли не робко. — Касике!
И с великой радостью услышала в ответ: «А?»
— Так тебе понравилось это имя?
Молчание. Женщина прибавила:
— А меня зовут Усебия.
И словно далекое эхо:
— Невсебея.
Она улыбнулась, растерянная, расстроенная.
— Ты, значит, любишь давать прозвища?
— Вы первая меня обозвали.
— И то правда.
Женщине хотелось спросить, хорошо ли ему здесь, но трудно, до боли трудно было приласкать ребенка, жесткой корою покрылась душа за долгую бесплодную жизнь.
И она молчала, стараясь не выдать своих чувств, двигалась машинально, делала вид, будто занята; мальчик опять засвистал. Свет заливал все вокруг, и от этого еще более тяжким становилось молчание. Сейчас она обязательно заговорит, скажет первое, что придет в голову, или снова уйдет в свое одиночество, останется наедине со своими мыслями. И все-таки она молчала, терпеливо снося эту муку, а потом вдруг поняла, что говорит, только словно бы и не по своей воле, а рвется что-то само собой из души, хлещет, как кровь из вскрытой вены: