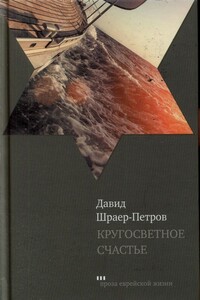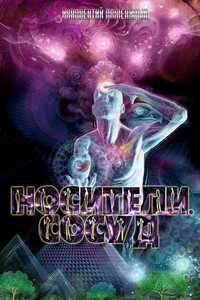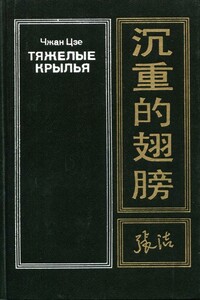Взгляды на жизнь щенка Мафа и его хозяйки — Мэрилин Монро | страница 36
В квартире на Пятьдесят седьмой улице явственно чувствовалось присутствие третьих лиц: начиная от памятных вещичек из главным образом выдуманного прошлого и заканчивая многочисленными портретами самой Мэрилин (в основном нарисованными ее поклонниками). Я очень быстро стал ощущать себя ее защитником — чувство весьма тривиальное и даже в чем-то напускное, но для нас обоих оно много значило. Меня как будто прислали, чтобы заботиться о Мэрилин. Теперь, когда она вновь осталась одна, на душе у нее было одновременно свежо и пусто: ей хотелось научиться принимать себя всерьез[17], ценить собственный опыт. И все же она не могла избавиться от человека, которым всегда была, от обворожительной и доступной девушки, которая сейчас стала пить и принимать снотворные.
Ей было тяжело. Она устала. Когда она стискивала меня в объятиях — своего защитника, хранителя и отраду, — я чувствовал гнет разочарования, как будто трудности, выпавшие Мэрилин в жизни (и в любви), только выявили ее слабые места, поставили ее перед собственной несостоятельностью. Но той зимой она радовалась своей свободе от Артура и от его закоснелой безупречной репутации.
А еще в квартире стоял мощный дух отступившего негодования, как будто Мэрилин наконец освободилась от человека, который излучал разрушительную энергию, — человека, ничуть не стремившегося подкреплять то хорошее, что в ней было, и то, без чего она не могла жить. Супруги зачастую состязаются друг с другом, верно? А плохие хотят не только уничтожить любимых, но и сокрушить саму их способность дарить любовь. Такие люди считают, что никто потом не вспомнит их вранья, нападок и капризов, но в действительности, кроме их ужасного поведения, в памяти бывших возлюбленных ничего не остается. Супружеским парам стоило бы поучиться у собак: сперва разобраться с собственной лавочкой, а уж потом открывать совместное дело с другим человеком.
Всего этого больше не чувствовалось в квартире. Вместе с пишущими машинками исчезли и упреки. Но в моей вселенной (уж будем откровенны, это вселенная полов и ковров) я то и дело натыкался на свидетельства того, что мистер Миллер пытался просвещать Мэрилин. Все книжки были новые, и ни одна из них не имела отношения к интересам двадцатилетней или совсем юной Мэрилин. Рядом с ванной, на очередной коробке из-под туфель «Феррагамо», выстроились следующие тома: «Корни американского коммунизма» Теодора Дрейпера, сочинения Рабле, «Демократия в Америке» Токвиля, «Часть моих мыслей» Эдмунда Уилсона и блестяще иллюстрированный «Маленький отважный паровозик». Все книги, кроме последней, Мэрилин читала только перед камерами, когда фотографы приходили снимать ее в домашней обстановке. В журнале «Лайф» она всегда появлялась с томиком «Улисса» или стихами Генриха Гейне на трепещущей груди. Жаль, я не мог посоветовать ей оставить всю эту чушь жлобам: читать умеют все, а Мэрилин помогала людям мечтать (как и Лена — до сих пор помню ее чудесные тальятелле в мясном соусе). Через некоторое время я стал замечать, что Лена обращается со мной так же, как доктор Сэмюэл Джонсон обращался со своим любимым котом Ходжем. Котяра изъяснялся александрийскими стихами — великий моралист их не слышал, но все равно кормил его устрицами, и кот был очень счастлив.