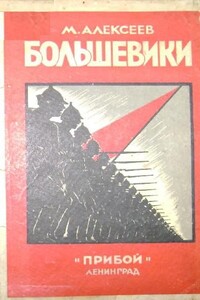Девятьсот семнадцатый | страница 75
Рабочие согласились. Выделили комиссию. Драгин, пошептавшись с Абрамом, подозвал к себе Гончаренко и сказал:
— Пойдем с тобой. Будем присутствовать на комиссии.
На ходу Гончаренко спросил:
— А скажите, товарищ Драгин, почему, если человек действительно такой, как Дума, негодяй, почему его не расстрелять тут же?
— Нам, большевикам, чужды такие приемы. Мы против смертной казни в принципе. Против потому, что человек не родится негодяем, а становится им в результате влияния обстановки и общества. Вот в том-то и задача, чтобы переделать эту обстановку. Так переделать мир, чтобы не было нищеты и невежества, тогда перестанут формироваться негодяи. Конечно, другое дело, если такие типы мешают революционной борьбе. Тогда… об этом можно будет говорить. И революции без насилия не обойтись. Но это печальная необходимость. На насилие нужно отвечать насилием. Но казнить человека в такой обстановке просто глупо. Нужно все выяснить. Потом ведь у власти не мы, рабочие и крестьяне, а буржуазия. Этот самосуд свалят на большевиков, раздуют в газетах. И могут повредить нашему делу.
— А как же бороться с такими?
— Можно посадить в тюрьму. И наконец важнее, если фельдшер действительно виноват, устроить над ним открытый суд. Чтобы другим не было соблазна.
Комиссия заседала в кабинете директора. Вызвали обвиняемого. Фельдшера привели под конвоем. Это был человек лет сорока, в рыжей щетине на сизых щеках.
— Настоящее кувшинное рыло, — шепнул Драгин.
Начался допрос. Фельдшер, прерывающимся от страха голосом, клялся и божился, доказывая, что он ни в чем не виноват.
— Господа, ну, разве я не понимаю. Посудите сам… Ни в чем не виноват, видит бог.
Драгин предложил вызвать потерпевшую. Комиссия, трое пожилых рабочих, охотно согласились с ним. Пока шли минуты ожидания, фельдшер плакал, стонал и вдруг тоненьким бабьим голосом завыл:
— Ай… не виноват. Ой-ой… Взятки брал, сознаюсь… Уууу… Ай! Нынче трудно… и — и-и-и… Семья большая… А в этом не повинен… У-у-у-у!
Его не пытались успокаивать.
Наконец явилась долгожданная потерпевшая. К удивлению и комиссии и Драгина с Гончаренко, это была старуха лет под семьдесят. Еще не дряхлая, но тонкая, как доска, со сморщенным, точно печеное яблоко, высохшим лицом.
Фельдшер, все еще продолжая всхлипывать, указал рукою на нее и, обращаясь к Драгину, сказал:
— Ну, господа… Ну, кто же польстится?
Потерпевшую попросили рассказать, как и что было. Старушка присела на стул, пожевала сморщенными губами.