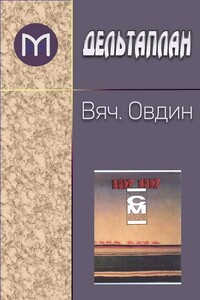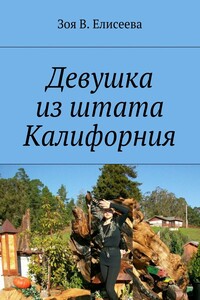Семь ликов Японии и другие рассказы | страница 83
если бы только деревянная японская кукла оказалась русской матрешкой, а не плотной и непрозрачной кокеши. Каждый авгур – толкователь Японии – сталкивается с той озадаченностью, с какой вежливо встречают в Японии его догадки об этой стране. Сопроводительную улыбку он станет со временем все реже ошибочно принимать за признание его проницательности: скорее она скрывает в себе стыд за напрасный труд и излишнюю бестактность.
Смотреть на вещи подобным образом, очевидно, означает слишком пристально их рассматривать. Японцы, как мне кажется, не так падки на рефлексию. У них в природе вещей избегать как прямых вопросов, так и окончательных ответов – в особенности в том, что касается их самих. В многозначности – нечеткой логике – здесь слишком долго упражнялись как в социальной добродетели, она глубоко въелась в национальный язык; для этоса ясности, для пафоса решения чего-то не хватает. Библейское «да, да», «нет, нет» звучит для японца так же экзотично, как для нас японская проблема: как ответить на вопрос «чай или кофе?», не попав в затруднительное положение. Решения не принимают, они должны сформироваться сами, иначе они будут отдавать произволом и дерзостью. Здесь доверяют инь – силе, предоставляющей свободу действиям, не менее, чем ян – силе активного действия. В этом опыте динамического равновесия мы, на Западе, склонны сначала примечать лишь недостатки – недостаток самостоятельности, индивидуализма, характера. И объяснение этому нам дает особенность японского островного характера – курьезная изоляция, культивируемая свыше четверти тысячелетия. Мы видим у японцев не защищенность, а скорее скованность, несвободу в своде правил и норм, карающих самостоятельность членов общества, расценивая это как проявление эгоизма и антисоциального поведения, как «выпадение из рамок»; здесь неограниченная любовь так же неприемлема, как и ошибочно подобранный цвет кимоно.
Курьезность этой системы отрицать не приходится – и, вероятно, самое большое ее достижение состояло в том, что она не поддавалась восприятию участников процесса как система. Это была просто организация всего само собой разумеющегося. Когда контакт с совсем другой системой – с остальным, варварским, миром – стал неизбежен или необходим, хранители системы ограничили его до одного искусственного островка в пределах островного космоса: Дэдзима, одновременно и экстерритория, и гетто, нормированный внешний мир, который не имел права поглотить отрегулированный внутренний мир. Здесь можно было торговать с этим внешним миром и здесь можно было от него откупаться. Хотя уже в феодальные времена, а именно в Театре кабуки, на сцене презираемой, но богатой касты торговцев, выразился дух протеста против регламента и цензуры. Но он искал убежища не в гражданских правах, а в праве на собственное чувство. Это была жалоба-сетование о бренности цветных снов, а не судебная жалоба-иск севильского цирюльника. Единственная свобода, дозволявшаяся системой, была кара, налагавшаяся на себя, – вплоть до совместного самоубийства влюбленных. В то время как западное Просвещение объявляет свободу последним доводом,