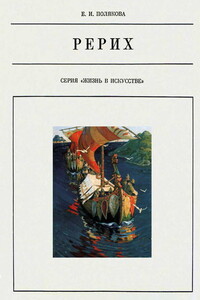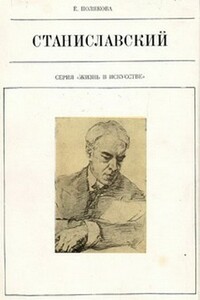Театр Сулержицкого: Этика. Эстетика. Режиссура | страница 59
Начался разговор. Говорил самый высокий из них, приятным баритоном, с легкой хрипотцой, часто откашливаясь. Говорил очень на „о“ — о том, что им хочется бывать на репетициях, что их сам Немирович приглашал, еще весной в Ялте, всегда бывать в театре, когда они будут в Москве. „Это ж Горький, — отрекомендовал его маленький с веселым смехом, — фамилия его такая. Горький, Максим Горький, писатель. И хороший писатель. Молодой еще, но уже хорошие рассказы пишет. А этот, — он указал на второго, — поэт, Скиталец фамилия, имеет большой голос — бас и на гуслях играет. А я — тоже вроде писатель. Еще ничего не написал, но буду писать обязательно. Моя фамилия Сулержицкий, а короче я Сулер. Выходит у меня похоже на „шулер“, но это потому, что у меня одного зуба спереди не хватает…“»
Сын Качалова и Литовцевой стал «завпостом» — заведующим постановочной частью Художественного театра. Литературные способности отца он не просто унаследовал — приумножил. О Сулере он написал великолепный раздел своей книги «В старом Художественном театре».
Дом Качаловых был гостеприимен к своей многочисленной родне, к сотоварищам — актерам. И вот появился новый визитер:
«В морозную ночь зимы 1900–1901 годов после спектакля Василий Иванович вернулся домой с каким-то новым гостем; кухарка, встретивши их в передней, попыталась снять с гостя пальто, но он сначала уговаривал ее, что ему снимать нечего, но так как глупая старуха упорно тянула его за воротник, за рукав, он ловко вывернулся и с веселым хохлацким: „Та нет же, та не дамся я тоби бабо“, — влетел в столовую. На нем была шерстяная, грубой рыбацкой вязки, с высоким воротом фуфайка и куртка, которая заменяла ему и пальто и пиджак… С улыбкой вошел в их жизнь Сулер, „дядя Лёпа“, как его звали мы дети, и с улыбкой сквозь слезы вспоминали его, когда он ушел из нее».
Репетируют «Снегурочку» Островского. Станиславский помнит, как пришел он во Владимирский собор, когда расписывал его Виктор Михайлович Васнецов. Как висели под потолком богомазы в «люльках», расписывая кистями своды. Сулеру, разумеется, вспоминалось собственное ученичество. Молодой Качалов репетировал роль старца-царя Берендея, девушки-берендейки надевали полотняные рубахи с вышивкой, лапти, украшенные речным жемчугом головные уборы. Пели хоры, водились хороводы, оживала лесная нечисть, лешие с лешенятами, медведь высовывался из берлоги. Пиршество фантазии, красок — Горький сравнивал спектакль с собором Василия Блаженного, со всем, что есть лучшего в Москве.