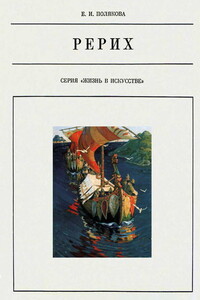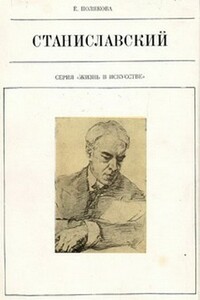Театр Сулержицкого: Этика. Эстетика. Режиссура | страница 58
«… слушая Штокмана, я еще раз нашел подтверждение тому, что нет и не может быть иного исхода, кроме признания правды всегда и везде (курсив автора. Е. П.), не делая никаких предположений о последствиях такого признания.
„Делай, что должно, а там будь, что будет“».
Последняя фраза — любимые слова Толстого, которые он повторял, повторял себе, всем другим в Ясной Поляне, в Хамовниках, в Астапово.
Следующая строка письма Сулера — словно строка будущей книги Станиславского «Моя жизнь в искусстве»: «Вы перевели это из области сознания в область чувства». Станиславский сказал бы: «Я перевел». Сознание слилось с чувством, «тенденция», автора с течением жизни на сцене.
Молодая зима, зима молодого театра. При серьезности дела, вернее, благодаря этой серьезности, неслыханно длительным репетициям, невиданной тщательности постановки доходы театра значительно меньше расходов. Первоначальная труппа меняется; в девятисотом приглашен в театр молодой «герой» провинции. Приглашен больше как муж своей жены, тончайшей актрисы Нины Левестам, по сцене Литовцевой. Фамилия белокурого «героя» Шверубович. По сцене Качалов. Сам он всегда будет помнить свой девятисотый год, который должен остаться и для нынешних театральных поколений, получающих дипломы о высшем образовании «Щуки», или «РАТИ». Однако чем дальше, тем меньше читают наши поколения. Поэтому приведем воспоминания Качалова. Тем более что память его точна, а литературный слог хорош. Итак, безвестный дебютант бежит по Бронной в «Романовку», так называется частный театр, по фамилии владельца. Потом там помещался Еврейский театр. Потом надолго утвердилось название «Театр на Малой Бронной». О нем говорили: «Пойдем к Эфросу!». В девятисотом — просто театральный зал.
Василий Иванович Качалов вспоминает: «Осень 1900 года в Москве. Театр наш (тогда еще не МХАТ, а Художественно-общедоступный) репетирует „Снегурочку“. Играли мы не в проезде Художественного театра, не в Камергерском переулке, а в Каретном ряду, в „Эрмитаже“, а для репетиций снимали „Романовку“. И вот, помню, в одно прекрасное утро, именно прекрасное осеннее утро, опаздывая на репетицию, бегу по Бронной. Меня обгоняют три фигуры: все разного роста, все по-разному, все необычно одеты, двое повыше ростом, третий низенький и коренастый. Все трое вбежали в подъезд „Романовки“. Вхожу за ними и вижу растерянные лица, слышу недоумевающие голоса — куда дальше идти, кого спросить?
Самый маленький, одетый в матроску, без шапки, с коротко остриженной головой, с окладистой бородой, казался на вид старше остальных. Он уставился на меня смеющимися, лукавыми, прищуренными глазами и спросил высоким певучим тенорком, с ярким киевским акцентом: „Будьте таким ласковым, скажите, пожалуйста, вы не хосподин артист будете?“ — и объяснил, что им всем очень хочется попасть на репетицию. Я, помню, что-то пробормотал, что это от меня не зависит, что я очень спешу, опоздал, впрочем, спрошу или пришлю кого-нибудь из администрации. Оказалось дальше, что еще не все собрались, что я не опоздал, и я сейчас же спустился опять к ним, очевидно потому, что эти три фигуры меня заинтересовали.