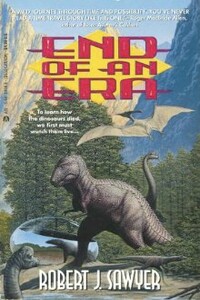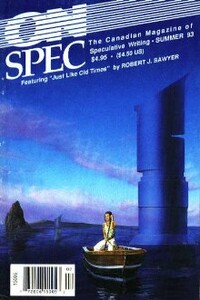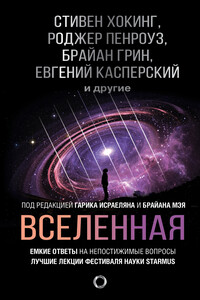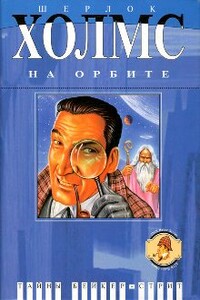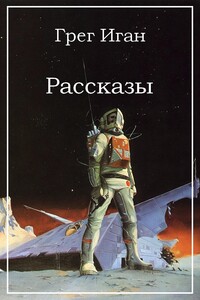Вычисление Бога | страница 54
Холлус легонько стукнул глазами:
— Я знаю о первой из них. Ясно, что в прошлом вы считали мастерство в этой игре величайшим достижением интеллекта — пока компьютер не сумел победить самого лучшего игрока. Вы, люди, действительно имеете обыкновение давать интеллекту самое сложноуловимое определение.
— Может быть, — ответил я. — В любом случае, сейчас мне хотелось поговорить о чём-то вроде шашек.
Я нажал на кнопку и сказал, указывая на кругляшки, появившиеся примерно на трети из шестидесяти четырёх клеток:
— Вот случайное распределение фигур. А теперь смотри: у каждой занятой клетки есть восемь соседних, если считать и диагональные, правильно?
Холлус вновь стукнул глазами друг о дружку.
— А теперь мы введём три простых правила: каждая клетка останется без изменений, будь она занята или пуста, если из всех соседних клеток занятыми окажутся ровно две. Если рядом с занятой клеткой имеется три занятых соседних, она останется занятой. Во всех остальных случаях клетка становится пустой, если она была занята — и остаётся пустой, если она пустой и была. Всё понятно?
— Да.
— Отлично. А теперь давай расширим доску. Вместо поля 8 в 8 пусть будет 400 в 300; на экране каждая клетка представлена группой пикселей, два на два. Занятые клетки закрашены белым, а незанятые — чёрным.
Я нажал на кнопку, и шашечная доска словно удалилась на большое расстояние, в то же время растянувшись по всему монитору. На этом разрешении сетка исчезла, но случайные массивы светлых и тёмных клеток были видны отчётливо.
— А теперь, — сказал я, — мы применим наши три правила.
При нажатии на пробел рисунок изменился.
— Ещё раз, — добавил я, снова нажимая на пробел. Рисунок изменился снова. — И ещё.
Точки на экране снова изменили конфигурацию.
Холлус посмотрел на монитор, а затем на меня.
— И что?
— А вот что, — сказал я, нажимая на другую кнопку.
Процесс пошёл сам собой. Три правила автоматически применялись к каждой клетке доски, после чего рисунок изменялся, и компьютер вновь применял три правила к новой конфигурации — и так далее.
Всего через несколько секунд возник первый глайдер.
— Видишь эту группу из пяти ячеек? — спросил я. — Она называется «глайдер», и… а, вон ещё один!
Я коснулся экрана, указывая, куда смотреть.
— Вот ещё один. Смотри, они движутся!
И действительно, они перемещались по экрану поле за полем, оставаясь при этом сплочённой группой.
— Если прогонять эту симуляцию достаточно долго, можно увидеть самые разные рисунки, чем-то напоминающие живые объекты. В общем-то, эта игра и называется «Жизнь». В 1970-м году её придумал математик по имени Джон Конвей. Когда я преподавал в Университете Торонто курсы по эволюции, приходилось демонстрировать её студентам. Конвей был поражён разнообразием форм, которые генерировались тремя простыми правилами. После достаточно большого числа итераций появляется структура, которая называется «глайдер-ружьё» — она через определённые интервалы выпускает новые глайдеры. Такие «ружья» могут создаваться в столкновениях тринадцати или более глайдеров — можно сказать, глайдеры сами себя воспроизводят. Также возникают «пожиратели», которые могут разбивать проходящие мимо объекты; при этом «пожиратели» получают повреждения, но через несколько ходов раны затягиваются. Игра симулирует передвижение, воспроизводство, еду, рост, лечение повреждений и так далее — и всё это из трёх простых правил, примененных к фигурам, которые изначально были расставлены случайным образом.