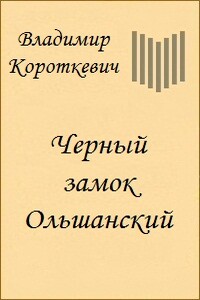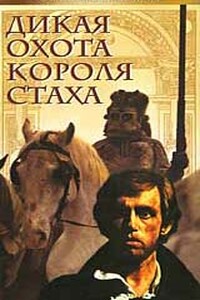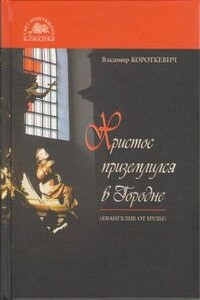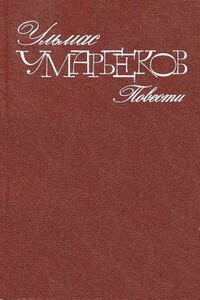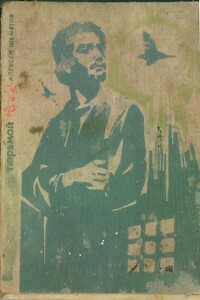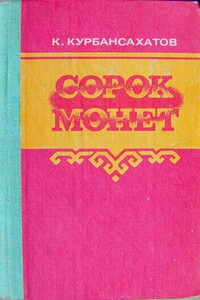Колосья под серпом твоим | страница 70
– Успокойтесь, граф, не надо.
– Жить не надо, если изменили жертвеннику, если кадишь палачу, вот что я вам скажу, князь… Жить не надо… Не надо прятать голову в песок. Героическая эпопея! Великий эксперимент! А чем он окончился? Трупами и изменой. Были юные, чистые сердцем люди, а теперь старые мерзавцы, которые загубили родину.
Испуганный этими словами такого спокойного с виду человека, Алесь тихо вышел из комнаты.
Он шел в темноте к еле видимому свету, который пробивался впереди сквозь узкую щель. Глухо звучали шаги. За окнами едва вырисовывались угрожающие во тьме ночи кроны деревьев в парке.
Там, за освещенной дверью, ожидали Майка и друзья, там была радость…
Он шел, а в ушах все еще звучали яростные слова: «Tenebres! Tenebres!»
IX
В Пивощах случилось следующее. Деревня была большая, на четыреста ревизских мужских душ, и жила рыболовством – богатые и средние мужики арендовали у своего пана рыбные тони на неисчислимых старицах Днепра – и извозом. Земли было не так уж и много, да и та наполовину урожайный лёссовидный суглинок, а остальная – песок да глина. Пивощи раскинулись на песчаных погорках, окруженных с трех сторон старицами и плавнями.
Пивощинцам поэтому было легче, чем крестьянам Кроеровщины – другой деревни пана Константина. Там шестьсот остальных ревизских душ жили на земле, богаче которой была только земля Загорского-Вежи, и сполна отрабатывали барщину. Им приходилось по условию три дня в неделю работать от темна до темна, а с пятнадцатого мая по пятнадцатое августа – с пяти часов утра до заката солнца.
Работали много и тяжело, словно пан Кроер имел не тысячу душ, а каких-то сто. Притом Кроер в свои сорок пять лет ходил все еще в «девках», а такие обычно тратят меньше. Однако же известно, что неженатый пан иногда большая беда, чем тот, у кого пятеро детей. А у Кроера, к несчастью крестьян, был еще и разгульный характер. Жениться он вообще не хотел и еще больше не хотел увеличивать богатство Загорских, которым после него переходили по наследству, через мать Алеся, «любимую троюродную сестрицу, святую дуру», деревни Кроера. Поэтому пан Константин кутил. Удержу ему не было. А его крестьяне работали на него лишний день, чего не было даже у более мелких помещиков, которые еле сводили концы с концами на своих считанных волоках.
И это в то время, когда по всему Приднепровью обычное право предусматривало два дня для барщины. Два дня по четырнадцать часов. Требовать большего – паны знали – невыгодно. Обычное право действовало чуть ли не с литовских времен, когда надо было угождать пограничным землям, дабы не чинили измены, и за столетия так въелось в плоть и кровь жителей, что менять его было просто опасно: начнут работать через пень-колоду, не будут беречь помещичий инвентарь, переломают его – «гори ясным огнем, если такое уж дело». А тогда поля зарастут чертополохом, и дудки уже получишь что-либо с них.