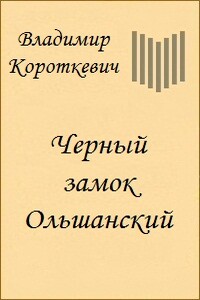Колосья под серпом твоим | страница 54
– Оставь, – сказал Маевский. – Ты улыбайся, а они пусть себе идут. Chacun Son metier.[35] С чего это тебе выходить из себя да ножкой шаркать? А propos de vielles ganaches?[36]
Глаза Мстислава смеялись.
– Такая госпожа, как добросердечие, сегодня пока что n’a point paru[37]… Даже признала лишним de faire de presence ici.[38] Нечего ей тут делать.
– Слушай, – тихо спросил Алесь, – почему это все они здесь говорят не так?
– Прикидываются все… Строят из себя более достойных, чем есть на самом деле.
– Нет, я не в этом смысле. Слышишь французский язык… Он заглушает все. Наверно, потому, что очень красивый. Но они ведь не французы, эти Ходанские и другие. А вот звучит польский. Довольно сильный поток. А вот русский… И никто пока что слова не произнес на мужицком, кроме тебя…
– А мне все равно… Отца у меня нет. Мать все время на водах, больная. Никто не заставляет.
– …Да еще Басак старый и родители, когда говорят со мной, так говорят по-мужицки. В чем тут дело?
– А разве это язык князя? – улыбается Мстислав. – Это, брат, так… Мужики говорят потому, что их никто не учил. Разве их язык сравнишь с французским? Он беден и груб.
– Пожалуй, что и так, – сказал Алесь. – Однако же почему паны не стыдятся разговаривать на этом грубом языке, когда приказывают мужикам: «Дашлi сёння сыноў з крыгай. Паны юшку будуць есцi, дык, можа, якая рыбiна ўблытаецца»?[39] И тут уж не стыдятся таких грубых слов, как «крыга», «ублытаецца». Что-то здесь неладно. Тебе что, тоже не нравится?
– Мне нравится, – после длинной паузы сказал Мстислав. – Мне даже кажется он мягким, только их ухо не слышит… Здесь, понимаешь, что-то вроде пения рогов на псовой охоте. Итальянец от него уши закроет, это для него как Бетховен после Беллини, а между тем нет для уха настоящего охотника музыки более сладкой, чем эта.
Помолчал.
– Только… не нашего ума это дело. Потом додумаю.
В этот момент на круг почета въехала старинная карета шестериком и остановилась перед террасой.
– Ошибся, – глаза Мстислава смеялись, – появилось наконец и добросердечие. Вот, брат, веселья будет!
Лакей объявил каким-то особенно звонким голосом:
– Их высокородие пани Надежда Клейна с дочерью.
Саженного роста лакей соскочил с запяток и с лязгом откинул подножку, распахнул дверцу.
– Проше…
В карете что-то шевелилось, не желая вылезать.
Второй лакей успел за это время приподнять тормоз (госпожа, видимо, все время приказывала держать его на колесе, боясь быстрой езды) и снял с головного коня мальчика-форейтора, у которого онемели ноги, а из кареты все еще никто не выходил.