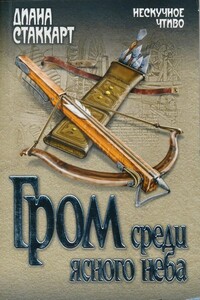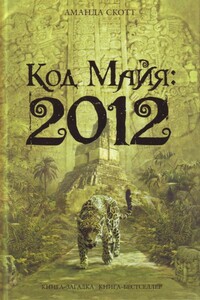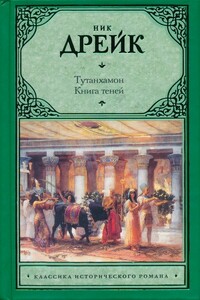Можайский-1: Начало | страница 81
13
К началу века медицинская наука шагнула далеко вперед — сравнительно с минувшими десятилетиями, — но спасти умиравшего с перерезанным горлом человека всё еще было непосильной задачей даже для самого хорошего врача и хирурга.
Михаил Георгиевич напрасно хлопотал над хрипевшим и захлебывавшимся собственной кровью Мякининым: две или три минуты спустя, злой, перепачканный, он вынужден был признать поражение.
Полицейские (Чулицкий и Можайский — в таких же залитых кровью сюртуке и кителе, как и сюртук Михаила Георгиевича) стояли мрачной, ошалевшей от произошедшего группой. Глядя на бесполезные усилия врача, они хранили, как принято выражаться, гробовое молчание, причем в данном конкретном случае этот эпитет приобрел до не смешного буквальный смысл. И только когда Михаил Георгиевич, до этого склонившийся над конвульсировавшим телом, выпрямился и отрицательно покачал головой, Чулицкий, грязно выругавшись, воскликнул:
— Да что же это такое?!
— М-да… Вот этого я не ожидал.
Улыбавшиеся, как и всегда, глаза Можайского производили сейчас особенно жуткое впечатление. Чулицкий содрогнулся.
— Может, кто-нибудь распорядится насчет тела?
Михаил Георгиевич задал вопрос как-то неожиданно буднично, но по всему было видно, что он обеспокоен и даже встревожен.
— Я — умываться. А потом…
Можайский в упор посмотрел на замолчавшего врача.
— А потом, Юрий Михайлович, я хотел бы получить некоторые объяснения. Вас, Михаил Фролович, это тоже касается.
Чулицкий вскинул голову, но посмотрел на доктора не тяжело в упор, а больше удивленно:
— А от меня-то вы что хотите услышать?
Теперь уже удивился Михаил Георгиевич:
— Но разве гимназист — не по вашей части?
Чулицкий побагровел, сделал шаг к доктору, потом от него, потом подошел к столу и с силой — внезапно и яростно — грохнул по нему кулаком. Удар был таким, что, подскочив, опрокинулись подсвечники с незажженными, к счастью, свечами. Одна из свечей переломилась пополам. Телефонный аппарат металлически лязгнул. От уже впитавшейся было в сукно лужи керосина пошел острый запах.
— Михаил Фролович… — Можайский поморщился, но непонятно от чего: от неприятного запаха или от выходившего за рамки приличий поступка Чулицкого. — Держите себя в руках. Мебель, как-никак, казенная!
На мгновение, буквально обомлев, Чулицкий замер, а потом, из красного сделавшись мертвенно-бледным, взорвался:
— Держать себя в руках? Держать себя в руках? Ну, вот что: с меня довольно! Ты, Можайский, перешел уже все границы! А я-то, Боже, какой дурак! Можайский поехал, Можайский приехал, Можайский подозревает, Можайский полагает! И что? Два — уже два! — трупа! На моих, Можайский, — не на твоих — руках! И надо же, какие пустяки: второй — с перерезанным на моих же глазах и чуть не при моем непосредственном участии горлом! Действительно: что тут такого? Сейчас его, труп этот, свезут в покойницкую, а мы, тем временем, чаю попьем! Послушаем Можайского, приятно скоротаем ночь… Да? Нет, черт тебя побери! И это… — Чулицкий с остервенением начал сдирать с себя перепачканный кровью Мякинина сюртук и, содрав, швырнул его в пристава. — Забери эту гадость! И хватит уже улыбаться! Ты слышишь? Хватит!