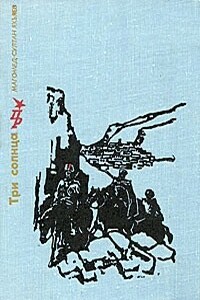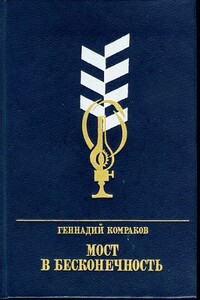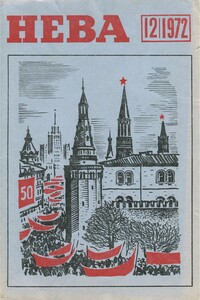Зову живых | страница 13
Поднявшись в сопровождении Петрашевского по скрипучей лестнице наверх, обещанного порядка Достоевский как-то не приметил. Собралось человек десять — пятнадцать, в большинстве знакомых, все мужчины, статские, меж сюртуками два-три мундира. На большом, накрытом белой скатертью столе посреди зала кипел самовар, стояло вино, закуски. Достоевский с холоду взял себе чаю. Его появление приветствовали довольно дружно, кто кивком, кто улыбкой, кто взмахом руки, не прерывая, однако же, разговоров, то отдельных, то неожиданно соединявшихся в один общий, то опять рассыпавшихся. Этот перекрестный разговор, в котором, как ни вслушивайся, всего не уловишь, вращался вокруг тех же трепещущих тем: манифест, рекрутский набор, Пруссия, Австрия, Париж. Кто-то рассказывал о разгоне уличных толп в Глазго, кто-то спрашивал:
— А вы слышали, господа: во Франкфурте объявлено о свободе печати?!
Кто-то цитировал высочайший манифест: «Мы готовы встретить врагов наших, где бы они ни предстали!» — и в растерянности вопрошал:
— Неужели же двинемся на Европу, как вы, господа, полагаете?
Задумчиво помешивая ложечкою в стакане и мало-помалу отогреваясь, Достоевский улавливал клочки разговоров, рассеянно скользил взглядом по лицам знакомым и незнакомым; лица, платье, наружность всегда занимали его, лишь поскольку выражали движенья душевные, как, скажем, у вечно взвинченного чиновника с греческою фамилией, не то Басангло, не то Балсаглу; или у пригоженького, точно барышня, поручика Сагаи Пальма; или у худосочного раздражительного Дурова; или у невозмутимого и презначительного Спешнева…
На сообщение о свободе печати во Франкфурте откликнулся Петрашевский и постепенно завладел общим вниманием. Вопрос свободы печати и свободы мышления, сверкая глазами, говорил он — и трудно было не слушать его, когда он говорил, — не есть вопрос первой важности по сравнению с переменою судопроизводства — это был его любимый конек — и с освобождением крестьян, хотя, разумеется, свобода печатания может принести много лучшего и если бы осуществилась хотя на два дня, то он, Петрашевский, был бы этому рад и воспользовался и что-нибудь напечатал, но со всем тем он все-таки не отступит от своих убеждений. Как фурьерист он считал долгом повторить здесь, что человек прежде свободы жаждет благоденствия и счастья, о чем можно будет подробнее услышать сегодня же от Данилевского.
Говорить у нас никто не привык и не умеет, Достоевский в том убеждался не раз, как, впрочем, и все другие, кто наведывался в Коломну. Петрашевский был редким и ярким исключением. Как только он кончил, разговор опять распался. И Достоевский, далеко не крикун, не удержался от резкого слова, ибо сказанное слишком близко затрагивало его: