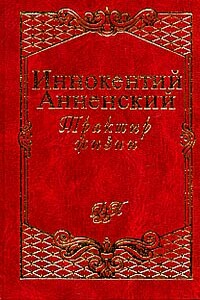На рубеже двух столетий | страница 37
Первая реакция руководителей РФО проявилась в письме Д. С. Мережковского к Д. В. Философову от 24 января 1913 года: «Описание Религ<иозно>-Фил<ософского> Собрания я прочел со жгучим интересом[143]. Бедный Женя! Я понимаю, какое бешенство он должен был возбуждать, а все-таки жаль его. А иначе нельзя было, как им „пожертвовать“. Спасибо Антону милому! Все-таки, судя по твоему письму, бой не проигран. А это главное. Это даже почти все, на что мы можем надеяться. До победы далеко, только бы не проиграть сраженья окончательно. Женя опасен, потому что он бессознательный и невинный предатель — т. е. худший из предателей. Не знаю, как вам всем, а мне кажется, что следует около того же места бой продолжать. Напиши, как вы решите»[144]. В письме Мережковского к Философову от 26 января вновь (как и у Карташева во время заседания РФО) возникает тема некоего совместного «действования»: «Насчет Жилкина я прочел в „Речи“[145] и понял, в чем дело. Пожалуй, действительно, „драмой пахнет“, особенно для Антона. За него жутко, а вообще скорее радостно. М<ожет> б<ыть>, наконец-то хоть чуточку поймут. Ну, хоть Струве и сам Жилкин поймет, что мы более реалисты, чем они думают, и что не о пустяках, а о деле говорим. Дай-то Бог! Страшно любопытно, что из всего этого выйдет. И как мучительно, что мы не с вами. Пишите обо всем подробнее. <…> А Поликсена страшно обижена на Жилкина — написала об этом Зине. Чего-то главного все-таки не понимает»[146].
Позиция А. В. Карташева проясняется из его статьи «Вредное непонимание церкви», опубликованной по следам драматического заседания РФО. Главным врагом автор называл «заразу бесцерковности», исходящую от «священника, не признающего церковных законов», «профессора богословия, безразличного к догматам», и «интеллигента-агностика», «православного» лишь «по культурным соображениям», и прочих оккультистов, теософов, хилиастов, вольных мистиков или моралистов — «теоретиков личной бесцерковной религиозности, не имеющей ничего общего с православием» и с «вселенской церковью вообще». «Нет, господа, — писал Карташев, — если хотите принадлежать к церкви, поймите, прежде всего, что она такое. Поймите всю ответственность и тяжесть слияния с ее догмой и жизнью. И если вам станет тесно в ней — откройте ей ваши запросы, боритесь с ее косностью, встаньте в оппозицию к „любящей матери“, разделитесь на конкурирующие партии в поисках общей церковной истины и совершенных форм церковно-общественной жизни. А если ваша борьба за реальное воплощение христианского идеала встретит роковой отпор со стороны церковной власти — познайте драму церковного суда над собой. Вызовите, наконец, его из сна небытия. Дойдите в действии, быть может, и до трагедии полного отрыва от церкви поместной. В бездействии — ваше преступление пред христианством, пред церковью — перед Россией!»