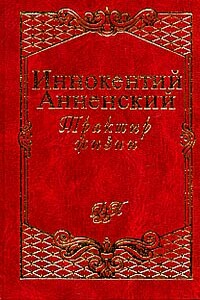На рубеже двух столетий | страница 34
Примечательно, что «символ» в цитатах из Гете («Все преходящее лишь символ») и Бодлера («леса символов») Мандельштам заменяет на «подобие» («Все преходящее есть только подобие») и «соответствие» («леса соответствий»). Если в первом случае «десимволизация» восстанавливает более точный перевод[135], то во втором — противоречит оригиналу («forêts de symboles»).
Михаил Безродный (Гейдельберг)
Об одном инциденте в петербургском Религиозно-философском обществе и его последствиях
Мне уже приходилось писать о Серебряном веке как эпохе «практического идеализма»: о всеобщей устремленности к идеальной философской коммуникации, о дифференциации на определенном этапе двух антагонистических стилей мышления — консервативно-идеологического и радикально-утопического, наконец, о самоопределении так называемых «младоидеалистов» и о том, в какие формы это движение воплотилось[136]. Между тем необходимо указать и на момент бифуркации, обусловленной одним событием, которое, растянувшись почти на полгода, символически поделило эпоху 1901–1925 годов на два практически равных отрезка.
19 января 1913 года, в субботу, в 8½ часов вечера в малом зале Императорского русского географического общества (Демидов пер., 8а) состоялось общее (закрытое) годовое собрание членов Религиозно-философского общества. Помимо чтения отчета секретаря (С. П. Каблукова) о деятельности общества и доклада ревизионной комиссии о состоянии денежных средств общества за 1912 год, должно было слушаться сообщение П. С. Соловьевой по поводу доклада Д. В. Философова «О принципе единства в Церкви»[137]. Сухая повестка дня вряд ли предполагала значимые и оживленные отклики, но вышло совсем иначе.
П. С. Соловьева выступила на собрании с докладом «Несколько слов о моем брате Вл. Соловьеве»[138]. Однако не столько сам доклад вызвал полемическую бурю, сколько последовавшее за ним выступление Е. П. Иванова. На следующий день, 20 января, А. Блок записал в дневнике: «Вечером — религиозно-философское собрание. На доклад П. С. Соловьевой мы с мамой опоздали, остальное было мучительно: Женя запутался, Карташев его выругал. Масса знакомых, разжижение мозга. Метнер, Руманов. Присутствовала Вера. <…>