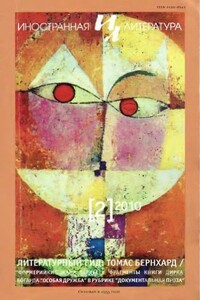Все во мне... | страница 128
ошибается. Итоговая цифра совпадает с суммой слагаемых, и указанная цена всегда оказывается единственно правильной. Сидя на пне, я спрашивал себя о своем происхождении и о том, должно ли меня вообще интересовать, откуда я родом; о том, осмелюсь ли я попытаться выяснить это или нет, хватит ли мне дерзости, чтобы исследовать себя до дна. Я еще никогда этого не делал, мне это всегда казалось чем-то запретным, я сам уклонялся оттого, чтобы демонтировать в себе слой за слоем, проникая сквозь эти слои вглубь; я никогда не ощущал себя способным на подобное, казался себе слишком слабым и одновременно неумелым; да и вообще — какие ориентиры, потребные для такого рода экспедиции, имею я в руках и в собственной голове, кроме расплывчатых, стертых, сквозь зубы оброненных моими родными намеков? В состоянии ли я сейчас отречься от себя прежнего — перед самим собой? Сделать то, на что никогда не решался в присутствии моих близких, не говоря о матери, — попытаться по крайней мере выяснить происхождение моего отца? Я ведь до сего дня ничего о нем не знаю, кроме того, что он и моя мама когда-то вместе ходили в первый класс начальной школы и что он погиб в возрасте сорока трех лет, во Франкфурте-на-Одере, прежде успев жениться в Германии и произвести на свет еще пятерых детей: как погиб, я толком не знаю, одни говорили, что его забили до смерти, другие — что застрелили; но кто именно, какая из враждовавших в сорок третьем году сторон — мне неизвестно. Я привык жить с этой неизвестностью, мне никогда не хватало мужества, чтобы пробиться сквозь густой туман человеческих и политических обстоятельств, из мамы нельзя было вытянуть ни слова о моем отце — почему, не знаю, могу только строить предположения, все, что касается моего отца, так и осталось предположением, но я часто спрашивал себя (он ведь как-никак был мне отцом): кто был мой отец? Сам он уже не мог дать мне никакого ответа, а другие не были к этому готовы. Сколь же серьезным должно было быть прегрешение — или прегрешения — моего родного отца, если в моей семье, даже наедине с дедом, я не имел права упоминать его имени: мне не разрешали произносить слово Алоис. Прошло уже восемь лет с тех пор, как я разыскал бывшую школьную подругу отца, которая тоже училась в народной школе с моей мамой; она знала моего отца, даже очень хорошо, как я теперь понимаю, и я, набравшись мужества, спросил, в какое время ей было бы удобно поговорить со мной о моем отце. Однако за день до назначенной ею встречи я обнаружил в газете ужасную фотографию: два обезглавленных трупа на шоссе под Зальцбургом; соученица мамы, единственный человек, который мог бы сообщить мне какие — то сведения о моем отце, погибла в результате автомобильной аварии. Из-за этой ужасной фотографии в газете я уверился в том, что больше не вправе никого расспрашивать об отце. Он был сыном сельского хозяина и изучил столярное ремесло; письма, которые он писал моей матери, наверняка изобиловали всякими лживыми выдумками. Он не признал во мне своего сына, не желал тратить на мое содержание ни единого шиллинга. Я и сейчас вижу, как мама ведет меня за руку в ратушу Траунштайна — семи — или восьмилетнего, — чтобы у меня взяли анализ крови и так доказали отцовство
Книги, похожие на Все во мне...