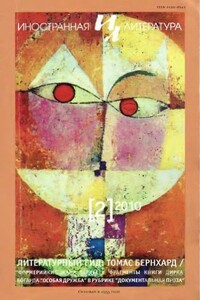Все во мне... | страница 125
: потому что тогда я действительно прощался со всем и вся, вынужден был прощаться — с любой вещью из тех, которые мне сейчас (навскидку) приходят в голову, я тогда распрощался. Я бесцельно бродил по улицам Зальцбурга, поднимался на окрестные холмы, вновь и вновь подходил к свежей могиле деда — лишь с той целью, чтобы со всем распрощаться. Когда я возвращался домой — голодный, усталый, в подлинном смысле слова утомленный жизнью, — наступал черед прощания с моей мамой. Вся квартира полнилась ее дурным запахом, этот дурной запах проникал всюду и распространялся по всему дому. Мама знала, что скоро умрет, и знала отчего; никто ей этого не говорил, но она была такой умной, проницательной — от нее ничто не могло укрыться. Она переносила свою болезнь терпеливо, ни в чем не упрекая ни близких ей людей, ни мир, ни Бога. Целыми днями ее застывший взор был устремлен на стену, но ненависти она не испытывала — ни к кому и ни к чему, кроме неуместной здесь жалости. К тому времени она уже полгода страдала от невообразимых болей, которые нельзя было снять никакими медикаментами — разве что чуть-чуть ослабить. Гептадон, морфий во все более сильных дозах, обеспечение дневного и ночного ухода ее мужем, моей бабушкой — до полного их изнеможения… Дети — я, брат и сестра — о чем-то догадываясь, но, толком ничего не зная, понятное дело, по большей части только мешали или оставались сторонними наблюдателями. Мы видели все, но ничего не понимали, не могли понять. Болезнь мамы мои родные тоже объясняли небрежностью врача, возлагали на него ответственность за ее предстоящую смерть, как прежде возлагали на небрежного врача ответственность за смерть деда: врач вмешался слишком поздно и действовал спустя рукава, как они говорили, — но он нисколько не смутился, когда мой опекун, муж мамы, обвинил его в преступной небрежности, призвал к ответу; врачи в ответ на подобные обвинения обычно только пожимают плечами, после чего спокойно возвращаются к своим текущим делам. Хирург стал убийцей моего деда, гинеколог погубил маму, говорил я себе, — но это было смехотворно, глупо, неправдоподобно, к тому же смахивало на манию величия. Я сидел на пне между двумя буками и наблюдал, как внизу парами прогуливаются пациенты-мужчины, которым, в соответствии с местным распорядком, разрешалось гулять только в те часы, когда женщины лежали на веранде; здешние правила были таковы: мужчины лежали на веранде, когда женщины прогуливались, женщины отправлялись гулять, когда мужчины занимали места на своей веранде; таким образом дирекция препятствовала тому, чтобы женщины и мужчины гуляли вместе: женщины и мужчины не общались друг с другом, потому что, захоти они пообщаться, им пришлось бы нарушить больничные предписания и подвергнуть себя риску досрочной выписки. Я сидел на пне и, казалось бы, обозревая гуляющих, на самом деле обозревал свое зальцбургское межсезонье — время между Гросгмайном и Графенхофом, ужасное время подавленности и печали: я в те дни бродил по городу, воспроизводя маршруты, которые когда-то проходил вместе с дедом; шагал по улочкам, когда-то приводившим меня к моим учителям музыки; и даже отваживался (робко и стараясь не привлекать к себе внимания) забредать в Шерцхаузерфельд — впрочем, не приближаясь к заведению Подлахи; я останавливался на безопасном расстоянии от его продовольственной лавки и издали наблюдал за покупателями — я ведь их всех знал. Я бы ни при каких обстоятельствах не рискнул войти в лавку, я даже ни разу не окликнул знакомых мне покупателей Подлахи, проходивших всего метрах в пятидесяти или ста от меня; каждый раз, когда мне казалось, что вот-вот произойдет встреча, конфронтация, я поспешно прятался: потому что чувствовал себя неудачником, человеком, потерпевшим фиаско; я ведь при смехотворных обстоятельствах — разгружая в пургу картофель — простудился, серьезно заболел, оказался отрезанным от сообщества жителей Шерцхаузерфельда, был отторгнут этим сообществом и, скорее всего, забыт. С какой охотой я заговорил бы с этими людьми, позволил им себя узнать — но не осмеливался, из чувства самосохранения. Так что я убирался восвояси, еще более подавленный, чем прежде, — отброшенный в удвоенное одиночество. Повсюду я был слабаком: дома — с самого начала, ребенком, потом молодым человеком; в школе — ребенком, молодым человеком; учеником продавца — всегда и всюду; сознание этого угнетало меня, превращало любую прогулку по городу в наказание шпицрутенами: потому что во всех этих переулках и закоулках и среди всех этих людей я раз за разом оказывался слабаком, терпел поражение за поражением — такова уж моя натура, говорил я себе. Я ходил на Пфайфергассе, где брал уроки у госпожи Кельдорфер и ее супруга господина Вернера, моих преподавателей пения и музыки, — и оказался там слабаком. Я ходил в общеобразовательную школу — с тем же результатом; жил в интернате, учился в гимназии — везде повторялась та же история; меня отовсюду выгоняли с бранью и позором, везде унижали, отторгали, избавлялись от меня; я и сегодня испытываю такие ощущения, когда прохожу по улицам Зальцбурга, и сегодня — по прошествии трех десятков лет — спиной ощущаю ужасные удары шпицрутенов. Сидя на пне, я видел себя стучащимся во все эти двери, и ни в одном доме мне не открыли. Меня всегда отвергали, никогда не принимали, не воспринимали всерьез. Мои требования никто не соглашался удовлетворить, мои притязания смахивали на манию величия, а я, как это свойственно некоторым молодым людям, только еще больше завышал планку, — да их и невозможно было удовлетворить, эти маниакально завышенные требования к жизни, к обществу, ко всему. И мне — самонадеянному, требовавшему для себя всего — все время приходилось существовать, вжав голову в плечи. Как же это происходило на самом деле, спросил я себя, — по хронологии? И опять стал распаковывать все давным-давно запакованное, крест-накрест перевязанное шнуром; не торопясь, поскольку теперь наконец обрел необходимый покой, я возился до тех пор, пока не распаковал всё: войну и ее последствия, болезнь деда, смерть деда, мою болезнь, болезнь мамы, отчаяние моих родных, гнетущие жизненные обстоятельства, безысходность их существований — потом опять все запаковал и перевязал шнуром. Но я не мог просто оставить этот туго перевязанный пакет где попало, я должен был взять его с собой. Я и сегодня ношу его с собой, иногда вскрываю, распаковываю, а потом снова запаковываю и перевязываю. Я, выходит, веду себя неразумно. Я никогда и не буду вести себя разумно, вот что хуже всего. А сверх того, когда я распаковываю этот пакет при свидетелях, как сейчас; когда распаковываю эти нескладные, и жестокие, а очень часто — сентиментальные и банальные фразы (правда, обращаясь с ними без всякого почтения, как не обращаются ни с какими другими фразами), я не испытываю стыда, ни малейшего. Будь у меня хоть капля стыда, я бы вообще не смог писать, только бесстыжий пишет, только бесстыжий способен упаковывать фразы, и вновь распаковывать, и просто-напросто складывать одну фразу с другой — только бесстыднейший из бесстыжих в своих высказываниях равен самому себе. Но, конечно, и это, как все другое, — ложное заключение. Я сидел на пне и рассматривал собственное существование, которое должен был бы так проникновенно любить и одновременно так ужасающе ненавидеть. В тот промежуточный период я, среди прочего, сдал экзамен на младшего продавца, в так называемой Палате ремесел; я хотел завершить как положено период своего ученичества — я заслужил право сдавать такой экзамен, и я этот экзамен выдержал. Мне предложили назвать двадцать семь сортов чая, образцы которых были разложены передо мной, и я в них не запутался; на вопрос, можно ли в бутылку с наклейкой фирмы «ГРАФ» налить масло «Магги», если попросит покупатель, я ответил
Книги, похожие на Все во мне...