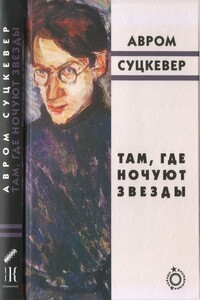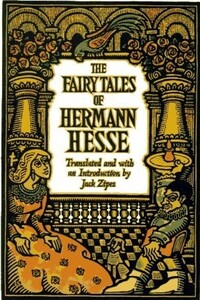Когда всё кончилось | страница 26
Акушерка, взяв гильзу из коробки, набила себе новую папиросу. Закуривая ее над лампой, она искоса взглянула на насупившегося Липкиса и улыбнулась насмешливо-примирительно:
— Странности есть у каждого.
Она, по-видимому, собиралась рассказать о человеке, вся жизнь которого была вереницей странных поступков. Она могла бы порассказать немало об этом знакомом своем, одиноком, молодом, полном сил писателе Герце, пишущем по древнееврейски: летом околачивается он всегда где-то в глухой, заброшенной швейцарской деревушке, а зиму проводит в маленьком литовском городишке, где его покойному деду-раввину давно уже поставлен памятник на общественный счет.
Очень похоже было на то, что акушерка потерпела крушение именно в любви своей к этому юноше, уже разуверившемуся во всем, и какая-то неприятность вышла у них два года назад; тогда пришлось ей скрепя сердце покинуть родной городок и переселиться сюда, на окраину глухой деревушки.
Миреле придвинула стул ближе к кровати, где удобно уселась акушерка. А мысль Липкиса занята была будничными расчетами: «Мать все толкует, что нужно сшить себе хоть полдюжины рубах… Эх, сколько ни зарабатывай, в конце концов не хватит даже на то, чтоб в будущем году зимой поехать в губернский город…»
И когда эта мысль перестала наконец сверлить его мозг, он заметил, что Миреле, наклонившись, вглядывается с жадным любопытством в лицо акушерки и ловит слова, которые та медленно цедит, выпуская их изо рта вместе с клубами дыма.
— Вы спрашиваете, Мира, пишет ли Герц? Да он, во-первых, слишком умен и до глупостей не охотник, а во-вторых… — Она затягивается покрепче папироской, так что красный огонек освещает все ее лицо, выпускает дым изо рта, и губы ее складываются в удивленную и обиженную гримасу: — Очень нужны мне, в самом деле, эти письма его — подумаешь тоже…
На лице Липкиса появляется насмешливое выражение, говорящее: «Еще бы, акушерке вообще не нужно то, чего у нее нет и никогда не будет».
Хотелось бы ему, конечно, отплатить ей этим замечанием за давешние слова: «Ох, беда мне с вами, Липкис, да и только»… Но он сдерживается, глядит с ненавистью на ее возбужденное лицо и молчит.
Так тихо в этой хатенке акушерки, где светится огонь в такой поздний час. Должно быть, уже очень поздно. Ночная тишина ноет во всех оставшихся в тени уголках, и слышно лишь, как Липкис опирается головой о прутья кровати и как медленно гаснут те строго обдуманные слова, которые акушерка Шац роняет в тишину, рассказывая о своем знакомом: