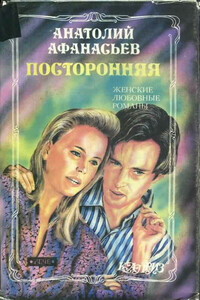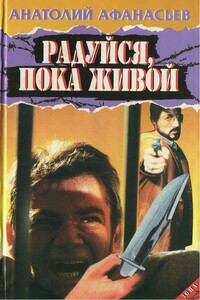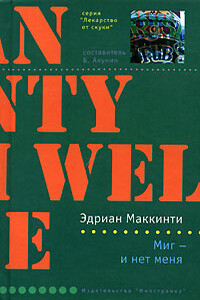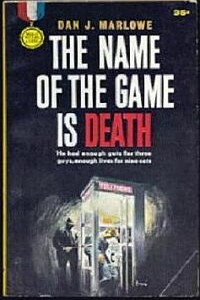Принцесса Анита и ее возлюбленный | страница 24
Дознавательша забавно наклонила головку, словно прислушиваясь к звуку уходящей речи:
— Вы ничего не говорили, я ничего не слышала, ладно?
— Пусть так. Но если не сделаете это быстро, уже некого будет допрашивать. Лена, не бери грех на душу.
Она встала и пошла к дверям. Когда оглянулась, Никита поднял растопыренную ладонь: пять!
Эту ночь и следующую опять не спал, кемарил днем, но ничего не происходило. О нем словно забыли, хотя не придумать удобнее места, чтобы завершить акцию. Он предполагал, пожалуют солидные люди, уверенные в себе. Наученные неудачной попыткой, запасутся пушками с глушителем, впрочем, бетонный флигелек лазарета стоял на отшибе от основного здания, тут можно палить хоть из кормового орудия, никто не услышит. Но по правилам, принятым в бизнесе, полагается, чтобы с глушителем. Перед тем как убивать, ему обязательно по-доброму объяснят, в чем его вина. Как раз этот люфт даст ему единственную возможность спасти свою шкуру. У него было, что предъявить очередным посланцам Мусавая. Можно сказать, ему немного повезло. В лазарете по ночам никто не дежурил, в этом не было необходимости. Мощная железная дверь флигелька закрывалась снаружи на засов, а все окна заделаны прочными стальными решетками. Из персонала на ночь оставалась санитарка Дуня, из бывших зэчек, она с девяти вечера запиралась у себя в каморке, чтобы ублажить себя водчонкой. Вдобавок Никита был в лазарете единственный постоялец. В первую же ночь он, дождавшись полной тишины, вышел в коридор и спокойно обследовал одноэтажное здание — четыре палаты, кладовка и комната — кухня-столовая. Повезло ему в кладовке, комнатенке без окон, заваленной разнообразным хламом и узлами с тряпьем. Среди прочего там стоял прислоненный к стене остов старой кровати, хранящий в своих проржавевших пружинах воспоминания о многих необычных происшествиях. Кстати, наличие бесхозной кладовки в тюрьме (пусть даже в лазарете), где жизнь подчинялась множеству инструкций, было явлением несуразным, но Никита только порадовался этому. Из старой кровати, покрякивая от боли в плече, он вывинтил, вывернул железную штангу около полутора метров длиной, принес ее в палату и затырил под ватным матрасом. Ботинки у него отобрали, не дав взамен даже тапочек, но «ариадна» тоже по-прежнему была при нем, умело схороненная в поясе больничных то ли штатов, то ли кальсон. Вооруженный до зубов, он чувствовал себя уверенно, поджидая гостей.
Однако действительность опровергла его рабочие гипотезы. На третий день под вечер в палате возник лекарь Митяй Иванович, пожилой, полупьяный, похоже, от природы мужик с разноцветными глазами разной величины. Один глаз крупный, зеленовато-серый, второй, поменьше, голубой и со слезой. Сердобольный человек, сочувствующий всем сирым и убогим, уловленным в узилище. Днем он делал Никите перевязку, ковырнул в ране и утешительно заметил, что не загноилась и затягивается. Потом они выкурили по сигарете (Никита не курил, держал зажженный чинарик в руке за компанию), и лекарь, недавно принявший утреннюю дозу спирта и пребывавший в угнетенном настроении, как после акта любви, ни с того ни с сего рассказал Никите, как у него разрывается сердце, когда видит страдания людей, оттого и не может удержать слез. В ответ Никита сказал, что еще больше, чем люди, страдают животные, потому что они даже не могут объяснить, где и что у них болит. На том и расстались. Обыкновенно Митяй Иванович после утреннего обхода исчезал до следующего дня, а тут вдруг объявился со шприцем в руке, раскрасневшийся и насупленный.