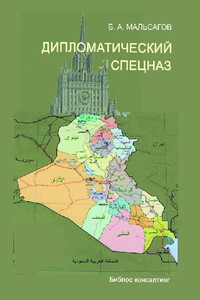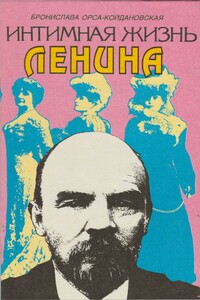Золотой Плес | страница 8
Иона Трофимыч, смотря на весь этот нажитый отцами и приумноженный им достаток, чувствовал силу, гордость, довольство. Беспокоило и раздражало только одно: жена, Елена. Баба она, обличьем и станом, хоть куда! Одно удовольствие, например, пройтись с ней в праздничный день по улице, отвешивая на все стороны глубокие и низкие поклоны! Но она, Елена, какая-то заговоренная, хоть с уголька спрыскивай: живет с ним два года, а у них, к великому стыду свекрови, все еще нет детей, лавкой не интересуется, почитывает тайком книжки... И ничем-то ее не урезонишь - ни лаской (какая-то рыба бесчувственная, русалка водяная!), ни руганью под горячую руку. Молчит, - смотрит обиженными глазами... и гневно на нее, и жалко, и тянет, тянет она к себе...
- Ленушка, - мягко сказал Иона Трофимыч, входя в столовую, - собирай ужин, устал я, притомел по трактирным койкам, на пуховик охота.
За ужином Иона Трофимыч рассказал о незнакомых спутниках (он нарочно приберегал эту новость):
- Гости залетные, сокол и кукушечка, пожаловали сюда. Какой-то господин, из себя видный, представительный, похоже, будто находится в услужении у богатого хозяина, и с ним бабочка («Сожительница, значит», - перебила мать)... стреляная, по всей видимости, штучка, вертлявая, дотошная, черная, как цыганка. Приехали, говорят, картины списывать, - при них поставец на трех ногах, зонты и охотная собака.
- И собаку, наверно, в комнате поместят, - усмехнулась сестра.
- Да уж добра не жди, один соблазн, - хмуро сказала Епистолия Антиповна.
Жена молча отхлебывала молоко из общего блюда, думала опять о чем-то своем.
- Белены ты все-таки объелась, Елена, - мрачно посмотрел на нее Иона Трофимыч. - Поди стели постелю.
Когда она вышла, Иона Трофимыч сказал матери:
- Вот еще заботушка: приедешь как к чужой, подарок ей - не подарок, слово - не слово, что только и делать, ума не приложу...
- Учить, сынок, надо... Сестра, часто ссорившаяся с золовкой, не вмешивалась: стояла в углу, под иконами, кланялась, выставив га-под глухого платка ухо, - слушала разговор матери и брата.
В спальной было душно и тесно от икон, от пуховиков и подушек, от комодов и шкафов. Пахло ссохшейся вербой, обвялой троицкой березой, бальзамическим ароматом курившейся на подносе «китайской» свечки. За окном гас закат, - комната казалась печальной, покинутой. Над Волгой летела - туда, на закат, - стая чаек.
Хотелось, как всегда, или опуститься на колени перед образами, жалуясь на свою жизнь, или уткнуться в подушки, до боли закусить руку, или - лучше всего! - уйти, тайно, ночью, куда глаза глядят...