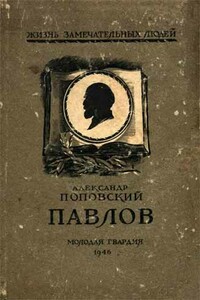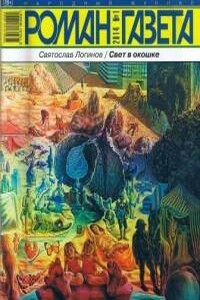Повесть о хлорелле | страница 83
— Мне всегда будет больно при мысли, что сын мой не похож на вас.
Со Свиридовым разговор был короче. Золотарев сообщил ему, что уезжает в Москву, и спросил, нет ли поручений. Ученый покачал головой и предложил ему сесть. Лев Яковлевич отказался и с некоторой торжественностью в голосе сказал:
— Я пришел просить у вас согласия на брак с вашей дочерью. Мы любим друг друга и, если ничто нам не помешает, весной поженимся.
Свиридов был удивлен и вместе с тем польщен, что сочли нужным спросить его разрешения. Он сделал вид, что обдумывает ответ и не без лукавства спросил:
— А если моего согласия не будет, как вы поступите? Ведь современные молодые люди сами решают подобные задачи.
— Но знаю, как другие, я никогда не женюсь на девушке без разрешения ее родителей.
— Что ж вы так легко сдаетесь? — с притворным удивлением спросил Свиридов. — Мы за любимую девушку на смерть дрались. Сказали вам «нет», и вы готовы отказаться.
— Зачем? Я буду ждать. Яков ждал свою Лию семь лет…
Ссылка на библейские предания вызвала улыбку у Самсона Даниловича. Вот он какой, библейскими текстами щеголяет…
— А как у вас насчет верности, — спросил Свиридов, — будете верны жене так же, как науке?
— Если жена подружится с наукой, — с улыбкой ответил Лев Яковлевич, — почему не быть верным тон и другой?
Приглашение на совещание в Москву прибыло одновременно из института и главного управления. До отъезда оставалось три дня, и Свиридов все время был крайне расстроен. Сознание необходимости выступить против сына мучительно угнетало его. То были горькие и тягостные дни, жестокое испытание для больного сердца ученого. О многом тогда передумал он и больше всего о том, как к этому относится жена. Несколько раз он пытался узнать ее мнение, она пожимала плечами и отделывалась ничего не значащими фразами. Легко ей отмалчиваться, а каково ему готовиться к делу, противному его чувству отца и человека.
— Ты совсем перестала меня замечать, — сказал он ей однажды, — мне ведь сейчас не очень легко.
Она словно не поняла, о чем идет речь, и недоуменно вскинула плечи.
— У меня эти дни болит голова, я рада-радешенька помолчать.
— Может быть, мне отказаться от поездки? — спросил он, надеясь втянуть жену в разговор.
— Поступай, как понимаешь… Там ведь и Петр, и Лов Яковлевич, их без тебя не отпустят.
Раздосадованный и обиженный, он тщетно пробовал успокоиться за книгой, за работой и неожиданно нашел себе занятие за грудой адресов, присланных друзьями и учреждениями в памятные дни его жизни. Топкие и объемистые, переплетенные в кожу и коленкор, с медными, серебряными и золотыми монограммами, они были ему дороги, как память о людях, некогда близких и родных. Были в адресах и безмерные похвалы, учтивые любезности и комплименты, приличествующие такого рода посланиям, но было и нечто такое, что волновало и радовало. На одном он прочитал грустное признание Джордано Бруно: «Смерть в одном столетии делает мыслителя бессмертным для будущих веков». Тут же был и ответ потомков, высеченный ими на камне: «Джордано Бруно от столетия, которое он предвидел». На переплете пышного адреса с золотым тиснением нашло себе место изречение Сенеки: «Чем длиннее наши портики, чем выше башни и обширнее дома, тем больше закрывают они небо…» Эти слова согревали сердце Свиридова в годы скорбных испытаний и внушали ему веру в лучшие времена. Теперь, когда в его жизни возникла новая скорбь, ободрения друзей снова утешали его.