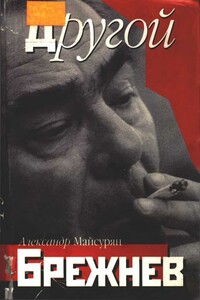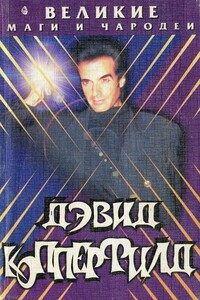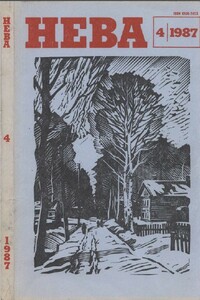Другой Ленин | страница 56
Что же это за «ехидные речи», от перевода которых Владимир Ильич получал такое «большое удовольствие»? Вот характерные отрывки из них:
«— Русь в целые десять веков ничего своего не выработала, ни в управлении, ни в суде, ни в науке, ни в искусстве, ни даже в ремесле… Лезут мне в глаза с даровитостью русской натуры, с гениальным инстинктом, с Кулибиным… Да какая это даровитость, помилуйте, господа? Это лепетанье спросонья, а не то полузвериная сметка… А что до Кулибина, который, не зная механики, смастерил какие-то пребезобразные часы, так я бы эти самые часы на позорный столб выставить приказал; вот, мол, смотрите, люди добрые, как не надо делать. Кулибин сам тут не виноват, да дело его дрянь…
Посетил я нынешнею весной Хрустальный дворец возле Лондона; в этом дворце помещается, как вам известно, нечто вроде выставки всего, до чего достигла людская изобретательность — энциклопедия человечества, так сказать надо. Ну-с, расхаживал я, расхаживал мимо всех этих машин и орудий и статуй великих людей; и подумал я в те поры: если бы такой вышел приказ, что вместе с исчезновением какого-либо народа с лица земли немедленно должно было бы исчезнуть из Хрустального дворца все то, что тот народ выдумал, — наша матушка, Русь православная, провалиться бы могла в тартарары, и ни одного гвоздика, ни одной булавочки не потревожила бы, родная: все бы преспокойно осталось на своем месте, потому что даже самовар, и лапти, и дуга, и кнут — эти наши знаменитые продукты — не нами выдуманы. Подобного опыта даже с Сандвичевскими островами произвести невозможно; тамошние жители какие-то лодки да копья изобрели: посетители заметили бы их отсутствие».
Потугин — убежденный «западник». Он так себя и представляет:
«— Да-с, да-с, я западник, я предан Европе; то есть, говоря точнее, я предан образованности, той самой образованности, над которою так мило у нас теперь потешаются, — цивилизации, — да, да, это слово еще лучше, — и люблю ее всем сердцем, и верю в нее, и другой веры у меня нет и не будет. Это слово… и понятно, и чисто, и свято, а другие все, народность там, что ли, слава, кровью пахнут… Бог с ними!»
Что созвучного было в этих речах со взглядами Владимира Ильича? Сейчас может показаться неожиданным, но марксизм на рубеже XIX–XX веков представлялся в России не просто как западничество, а как своего рода крайнее, «ультразападничество». «Нас привлекало в марксизме и другое, — вспоминал Вольский, — его европеизм. Он шел из Европы, от него веяло, пахло не домашней плесенью, самобытностью, а чем-то новым, свежим, заманчивым… Запад нас манил».