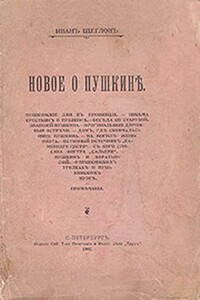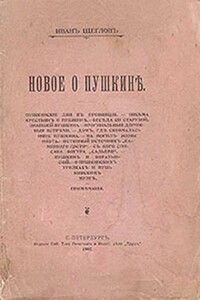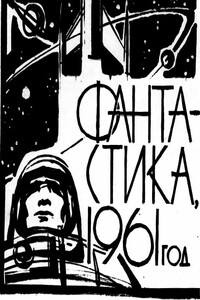Нескромные догадки | страница 8
На днях как раз мне попалась любопытнейшая книга, изданная Обществом ревнителей русского исторического просвещения, — «Татевский сборник», составленный известным любителем русского народа и русской литературы С.А. Рачинским, и одним из интереснейших вкладов сборника являются письма Е.А. Боратынского к И.В. Киреевскому. Письма в общем очень красивые по форме, очень умны… и очень холодны. Самые интересные в данном случае — те строки, где упоминается о Пушкине. «Ты первый из всех знакомых мне людей, с которым изливаюсь я без застенчивости», — пишет Боратынский Ивану Киреевскому и изливает… по адресу Пушкина ряд замечаний, обнаруживающих, невзирая на внешнюю оболочку корректности и философского спокойствия, чувство, весьма недалекое от скрытой ненависти на чужой громкий успех. Как, например, иначе прикажете объяснить его интимный отзыв о «Евгении Онегине» Пушкина. Если б все, что есть в «Онегине», было собственностью Пушкина, то без сомнения он ручался бы за гений писателя. «Но форма принадлежит Байрону, тон — тоже. Множество поэтических подробностей заимствовано у того и у другого. Пушкину принадлежат в „Онегине“ характеры его героев и местные описания России. Характеры его бледны. Онегин развит неглубоко.
Татьяна не имеет особенности. Ленский ничтожен. Местные описания прекрасны, но только там, где чистая пластика. Нет ничего такого, что бы решительно характеризовало наш русский быт. Вообще это произведение носит на себе печать первого опыта, хотя опыта человека с большим дарованием. Оно блестящее, но почти все ученическое, потому что почти все подражательное. Так пишут обыкновенно в первой молодости, из любви к поэтическим формам более, нежели из настоящей потребности выражаться. Вот тебе теперешнее мое мнение об „Онегине“. Поверяю его тебе за тайну и надеюсь, что она останется между нами, ибо мне весьма некстати строго критиковать Пушкина…».
Однако это не помешало Боратынскому вскоре после появления «Евгения Онегина» написать поэму «Бал», где он явно подражает Пушкину и даже заметно старается с ним конкурировать… а это бы, казалось, уже совсем некстати. Сцена, например, между княгиней Ниной и мамушкой — претенциозный сколок с знаменитого диалога Татьяны и няни в третьей главе «Евгения Онегина», только у Пушкина живая жизнь и живые типы, а здесь плохая мелодрама и Нина-Татьяна и Арсений-Евгений — бледные тени по сравнению с фигурами Пушкина. (Даже в пресловутой «Эде», так товарищески великодушно превознесенной Пушкиным, нельзя не видеть довольно прозрачного отражения «Кавказского пленника».)