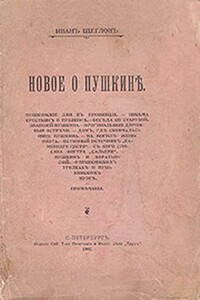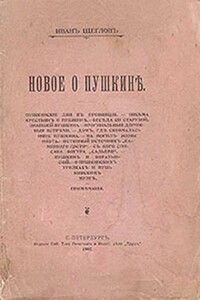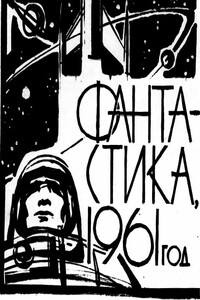Нескромные догадки | страница 7
Пир во время кумы
Недаром этот стих выливается почти одновременно с созданием «Каменного гостя» — этим, быть может, слишком дорогим залогом поэтического бессмертия.
И в отношении Дон Жуана к Донне Анне опять все те же «пушкинские черты» молитвенного отношения к красоте; а в речах прямо проскальзывают знакомые слова, которые мы находим в письмах Пушкина — жениха и мужа — к Наталии Николаевне Гончаровой…
говорит Донна Анна Дон Жуану, то есть то же самое, что думала сначала Наталья Николаевна о Пушкине со слов своей родни (для которой, судя по тем же письмам, Пушкин на словах, так сказать, переодевался монахом, как Дон Жуан в «Каменном госте» переодевается на самом деле).
признается Дон Жуан-Пушкин. И говорит на этот раз сущую правду. Теперь его захватила настоящая роковая любовь, любовь-гибель, ради которой он не отступает даже перед призраком смерти:
И когда смерть приходит… у него вырываются только три слова:
Я гибну — кончено — о Донна Анна!
Пророчески неотразимые слова, определившие всю дальнейшую скорбную судьбу поэта. Это тоскливое предчувствие смерти с тех пор не оставляет его, и накануне написания «Каменного гостя» в сценах «Моцарта и Сальери» оно же просачивается в словах Моцарта:
Ах, что это за удивительный перл «Моцарт и Сальери»! Обе фигуры так заразительно жизненны и в то же время так классически безукоризненны по воспроизведению, точно две античные статуи, изваянные резцом Фидия. Трудно, кажется, более выпукло передать в образе то пленительное добродушие и беззаботность, которые отличают истинного гения, — черты, приравнивающие его по душевной прозрачности к детям. Этого чисто детского добродушия и счастливой беспечности было слишком много в самом Пушкине, чтобы он не почерпнул из своей душевной сокровищницы для создания родственной ему тонко-сложной фигуры Моцарта.
Относительно Сальери дело обстояло, надо полагать, несколько проще. Литература, как всякая область искусства, достаточно кишит всегда подобными Сальери, и уловление типических «сальеревских» черт не могло представлять затруднения. Как теперь встречаются самомненные писатели, которые скрежещут зубами от самомненного убеждения, что Чехов и Толстой стали поперек дороги их популярности, так и во время Пушкина немало было таких «сальеристов», поэтов и прозаиков, тонувших в лучах славы Пушкина и Гоголя и, если не наружно, то внутренно и в интимных кружках брюзжавших по адресу своего гениального современника. В особенности много потонуло поэтов, и между прочими талантливейший и умнейший из них — Боратынский. Гордые крылья его меланхолической музы, красивой, но холодной, как бы растопились на солнце живой пушкинской поэзии. Теперь это имя принадлежит истории, и да позволено будет вплести его в психологическую сеть наших нескромных догадок…