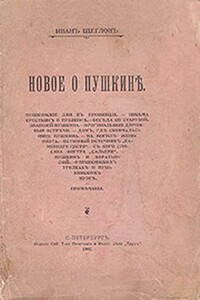Нескромные догадки | страница 9
Не менее беспощадны и остальные замечания Боратынского по адресу Пушкина. Например, сказки Пушкина, по мнению Боратынского, переводя изящную прозу его письма на простой язык, — ни к черту не годятся: «Что за поэзия слово в слово привести в рифмы „Еруслана Лазаревича“ или „Жар-Птицу“? — пишет он по поводу „Царя Салтана“. — И что это прибавляет к литературному нашему богатству? Оставим материалы народной поэзии в их первобытном виде или соберем их в одно полное целое, которое настолько бы их превосходило, сколько хорошая история превосходит современные записки. Материалы поэтические иначе нельзя собрать в одно целое, как через поэтический вымысел, соответственный их духу и по возможности все их обнимающий. Этого далеко нет у Пушкина. Его сказка равна достоинством одной из наших старых сказок — и только (?). Можно даже сказать, что между ними она не лучшая. Как далеко от этого подражания русским сказкам до подражания русским песням Дельвига. Одним словом, меня сказка Пушкина вовсе не удовлетворила».
Подумаешь, что осталось от Дельвига… тогда как русские сказки Пушкина, по собственным словам составителя сборника (как известно, близкого родственника Боратынского), послужили волшебным мостом, впервые соединившим народную речь с литературной. От «Бориса Годунова» взыскательный корреспондент Киреевского тоже не в особенном восторге и рад верить на слово своему брату, слышавшему трагедию Хомякова, что она далеко превосходит пушкинский шедевр.
И в других местах, где слышится имя Пушкина, — ни тени теплоты или проблеска восторга перед очарованием пушкинской музы. В одном месте: «Давно с тобой не виделся оттого, что занят был Пушкиным». И только. В другом месте: «„Повести Белкина“ я знаю. Пушкин мне читал их в рукописи. Напиши мне о них свое мнение». И тут же рядом в соседнем письме: «Я послал Пушкину свое то и то…». А ниже явно обличительная черта, намекающая на тайного червяка, который сосет современника Пушкина: «Я не отказываюсь писать, но хочется на время и даже долгое время перестать печатать. Поэзия для меня не самолюбивое наслаждение. Я не имею нужды в похвалах (разумеется, черни), но не вижу, почему обязан подвергаться ее ругательствам»…
И сопоставьте теперь с этими скупыми, почти пренебрежительными строками отзывы Пушкина о Боратынском: там что ни слово — истинный восторг, открытая душа, которая детски радуется малейшему дуновению истинного таланта, товарищеская тревога о всяких житейских мелочах, касающихся Е.А. «Сейчас пишу к ней (к П.А. Осиновой) и отсылаю „Эду“ — что за прелесть эта „Эда“! Оригинальности рассказа наши критики не поймут. Но какое разнообразие! Гусар, Эда и сам поэт — всякий говорит по-своему. А описание финляндской природы! А утро после первой ночи! А сцена с отцом! Чудо!» (Дельвигу о поэме Боратынского). В другом месте: «Уведомь о Боратынском — свечку поставлю за Закревского, если он его выручит!» (из письма к Л.С. Пушкину) — и т. д. и т. д. Не говоря уже о дружески горячей статье о сочинениях Боратынского и стихотворных посланиях к Е.А. Все это, впрочем, достаточно известно, пожалуй, гораздо более известно, чем самые сочинения Боратынского, что, в т. ч. в официальных письмах самому Пушкину (число коих, кстати сказать, подозрительно ограниченно), Боратынский расточает ему всевозможные похвалы и даже сравнивает в одном месте его деятельность в области поэзии с таковой же деятельностью Петра Великого в области государственной, — то тут уж выходит не только обычное у вторых номеров jalousie de metier (профессиональная ревность (фр.)), но прямо вероломство.