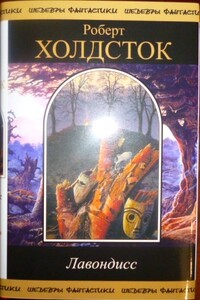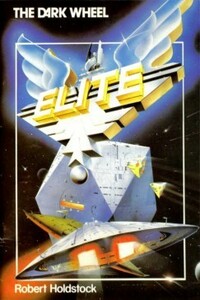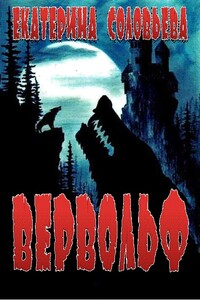Поверженные правители | страница 41
Эти изваяния были точным подобием людей, участвовавших в набеге на Дельфы.
Урта кое-что слышал об этом, но хотел бы знать больше. Теперь, когда он приближался с отрядом к восточным склонам крепостного холма, любопытство его разгоралось все сильнее.
Истуканы выглядывали из зарослей, уже обвитые вьюнком, порой покосившиеся, помеченные и изрезанные крестами и спиралями, увенчанные увядшими цветами или рваными красными платками. То же обнаружилось под прибрежными ивами у реки. Здесь было меньше изваяний, и вороны и прочие птицы отметили их по-своему, так что на некогда гордых лицах виднелись густые белые потеки.
И все же чья-то безумная, неумелая рука продолжала трудиться над этими коленопреклоненными людьми.
Урте прежде всего пришло в голову, что они превращены в памятники погибшим и что родные приходят отдать им последний долг.
Он был лишь наполовину прав. Вортингор нарисовал более полную картину. Но сперва он приветствовал гостей, накормил их и напоил крепким сладким вином, найденным среди обломков торгового судна с востока, разбившегося у берегов его владений, и усладил их слух песнями и стихами старейшего и славнейшего певца — бритоголового, безбородого человека по имени Талиенц. Талиенц пришел из-за серого моря, откуда-то с юга, и попал в плен. Вортингор избавил его от смерти на переломе зимы ради его талантов, разнообразных и часто забавных.
Талиенц занимал место на одной скамье с Вортингором, советниками вождя и женщинами-старейшинами. Урта подметил, что, слушая речь Вортингора, бард, прикрыв глаза, шевелил губами, вероятно заучивая беседу наизусть.
— У тебя хороший сын, — сказал Вортингор, поднимая чашу с вином за мальчика. — Глаза его говорят мне, что он видел смерть и что он сошелся с нею. И победил ее, коль скоро он здесь.
Урта тоже поднял чашу.
— Мальчишке немало досталось…
— Я могу говорить за себя! — вдруг перебил Кимон, вскочив на ноги и гневно глядя на отца.
Урта удивился такой грубости, но сдержанно ответил напрягшемуся всем телом сыну:
— Нет, не можешь!
Кимон, разрываясь между юношеской гордыней и пониманием своего места, не сразу сумел заговорить. Наконец он сказал:
— Я знаю, мне еще предстоит принять вызов, но никто не оспорит, что я совершил уже достаточно, защищая свою крепость, и могу говорить.
— Нет! Не можешь. Сядь.
Кимон помедлил ровно столько, чтобы показать свое недовольство словами отца, и сел. Он скрестил ноги и склонился вперед, уставившись на спящего мастифа у ног Вортингора. Вортингор с минуту разглядывал мальчика, затем кивнул.