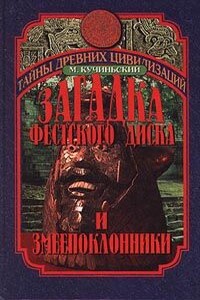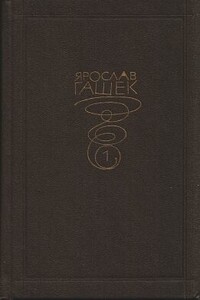Литературная Газета, 6446 (№ 03/2014) | страница 99
Переход в Петушиху был для него, видно, настолько мучительным, что в какой-то момент своего рассказа, махнув рукой, он умолкал, на глаза наворачивались слёзы. На этом пути Олег и промёрз окончательно: ватная фуфайка – не для сорокаградусного мороза.
Шёл наобум Лазаря, то и дело сбиваясь с дороги, признаки которой ещё сохранялись в тайге, а в полях были напрочь заметены так, что искать её продолжение приходилось, обходя края поляны, увязая по пояс в снегу. Только одно и было хорошо – ярко светила луна, заливая белым светом снежные равнины, да жгучий ветерок вовсе утих. Иначе б Олегу не выбраться из сугробов, он так и застыл бы в них – усталость валила в сон…
Проходили дни, закончился январь, но Олегу становилось всё хуже, он не мог уже встать со скамьи, и я видел, как, отвернувшись к стене, мой брат молча плакал.
Мама решилась позвать к[?]ркалок (гадáлок) – пусть погадают, свои снадобья попользуют, какой-никакой, а шанс. И направила меня передать им свою просьбу.
Жили кáркалки на правой стороне ручья «Ключик», пересекавшего Петушиху прямо посередине и уходившего в сторону с[?]гры у Чёрной речки. Первым на этой стороне деревни стоял дом жившего в Петушихе единоличником и бобылём, похожего на тронувшегося умом человека по прозвищу Лал-моти-не надо, а второй была изба кáркалок. Высоченную ростом и большущую другими размерами кáркалку звали Ефросинья, а её сухонькую и сгорбленную сестру – Авдотьей. В эту часть Петушихи без нужды мало кто заглядывал: и люди там жили странные, и сóгра – ни грибов, ни ягод здесь нет, зато всегда комары и мошкара тучами вьются. В этом месте так и веяло какой-то чертовщиной.
К избе кáркалок с большой деревенской дороги даже тропинки никто не пробил, снег лежал нетронутым, будто только что навалило. То и дело оставляя в сугробе свои безразмерные пимы, я всё ж добрался до загадочных бабок и постучал в окно. Кáркалки по очереди глянули на меня через стекло, потом впустили в избу. Я рассказал о нашей беде. Кáркалки сочувственно заохали и отпустили меня, повелев ждать их сей же день.
Пришли они вскоре. Едва Ефросинья вошла в нашу избу, оказалось, что места в ней, кроме самой Ефросиньи, нет никому – ни её сестре Авдотье, ни схожей с Авдотьей в миниатюрности нашей маме, ни нам, её малым детям. Надо думать, такое случалось не впервой, потому как Ефросинья, ещё не сняв полушубка, усадила маму в угол, к печке, и тоном, не допускающим возражений, велела сидеть тихо и не мешать; Иринку загнала на полати, а меня – на печку, задёрнув занавеску и приказав не высовываться. Но я, конечно же, не мог удержаться, подглядывал.