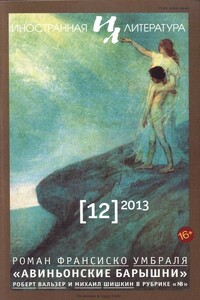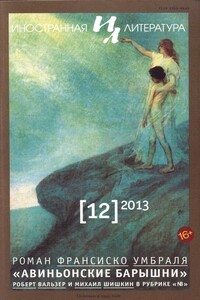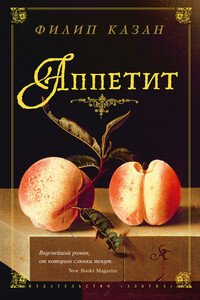Авиньонские барышни | страница 37
— Ваш непробиваемый цинизм, дорогой Валье, годится только на то, чтобы очаровать сидящих здесь дам.
— Этот цинизм вечен, ибо еще Древняя Греция практиковала собачий образ жизни[57], а я и есть бродячая собака с Пуэрта-дель-Соль.
— Ваши учителя — Барбе, Д’Аннунцио, Вилье[58] и вся эта братия — в Европе уже не котируются.
— Мои учителя? Скорее им нужно у меня поучиться. Кстати, вы не назвали Рубена.
— Рубену разве что индейских перьев не хватает.
— Это как-то не по-христиански, дон Мигель. К тому же, знаете, сними вы свою шляпу, и миру предстанет типичный мормон или квакер.
Все общество наслаждалось диалогом двух гениев. Дедушка Кайо и бабушка Элоиса были на стороне Унамуно-христианина. Три или четыре поколения женщин, которые собрал наш дом, были на стороне щеголя Валье. Потом, в fummi[59] за кофе, дон Рамон и дон Мигель сели отдельно, и галисиец изводил баска легендами о своих кельтских предках. Ослепительно белые парусиновые туфли дона Рамона очень нравились дамам, так же как и его египетские сигареты и трубочка с кифом[60], которую он предложил всем желающим. И все были окончательно покорены. Унамуно ходил вокруг него кругами, теребя в руках свой баскский берет, словно ему не терпелось уйти, и наконец ушел. Мария Эухения после смерти дона Жерома решила стать монахиней-бернардинкой, то есть затворницей, и в воскресенье все мы присутствовали на церемонии. Красавицу Марию Эухению остригли, отрезав ее грешные волосы, распростерли на полу, прозвучало много слов на латыни, и она удалилась, завесив черным свое прекрасное лицо. Монастырь стал для нее спасительным ковчегом, как и для многих других женщин. Я стоял между мамой и тетушкой Альгадефиной. Орган бурно вторгался в молитву, и музыка, как океан, мощными приливами и отливами колыхалась под сводами. Сверху, казалось прямо с неба, опускались тихие чистые голоса, и у всех у нас в глазах стояли слезы. Пламя свечей бросало отсвет на сведенные скукой лица святых, и, дрожа, осторожно лизало вечный сумрак в капеллах. Кузина Маэна и кузина Микаэла заявили, что это какое-то средневековье и готика — обречь себя на вечные молитвы из-за гибели жениха. А рыжеволосая Мария Луиса подошла к нам и взволнованно сказала:
— Я лучше стану проституткой в отеле «Палас», не слушай меня, мальчик, чем заложницей этих страшных монахинь.
У Марии Эухении было скромное приданое, и она пожертвовала его монастырю. Церемония была красивой и скучной. Церковь, этот черный огромный паук, уволок к себе одного из кумиров моего беззаботного детства.