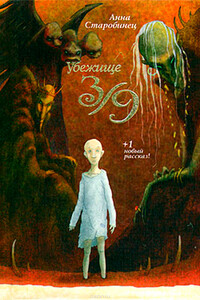Икарова железа | страница 51
А Леночку Отец не уволил. Говорят, она написала какое-то письмо против Василевского, и еще отдала Отцу диктофонные записи, где Василевский говорил что-то плохое про церковь. Сейчас она едет с нами. Вся разряженная, в платье из золотой чешуи.
Лучше бы Леночку посадили в тюрьму. Она Павлушу не любит. Она говорит, что Павлуши вообще больше нет, а этот, каким он стал, не Павлуша, а монстр. Она нарочно делает ему уколы больно, чтобы долго потом заживало. Павлуша, когда ее видит, всегда грустит, помнит, что раньше она была к нему ласкова. Водичку он у нее не берет и ей не поет.
Дура она. Не понимает, чего лишена. Никто не понимает, не знает. Ведь как он поет! Когда он поет, я не просто становлюсь счастливым. Я чувствую, как будто раньше, до песни, я был мертвецом, а песня меня воскресила, и пока она звучит, я живой.
В первый раз я Павлушину песню подслушал: пел он не мне. Он тогда только дня три как вышел из кокона, и его отпустили во двор прогуляться, подышать воздухом, под моим присмотром – потому что кроме меня он ни с кем идти не хотел, начинал биться, и Отец боялся, что он крылья себе порвет, – уж очень они у него тонкие, полупрозрачные, как у стрекозы или мухи, только большие. За нами обоими следили камеры. А на шею Павлуше надели специальный ошейник – если Павлуша вдруг решит убежать или улететь (хотя он не летал), этот ошейник его очень больно внутри ударит, так мне объяснили – и Павлуша какое-то время не сможет двигаться.
И вот ходил он по кругу, медленно, вокруг главного корпуса НЦИЦ, а потом остановился у свалки, рядом с местом, где я мышку похоронил, – я там палочку тогда воткнул, она так и торчала, – постоял-постоял, и запел, не открывая рта. Я тогда впервые услышал его стонущую сладкую песню – и почувствовал, будто плыву по медовой реке, и глотаю мед, и дышу им, и мед течет в моих венах. Но глаза мои оставались открыты, и сквозь лучистую, янтарную пелену я увидел, как палочка, которую я когда-то воткнул, зашаталась и упала на землю, а из груды мусора, как из норки, вышла белая мышка. Я не знаю, что за мышка это была – может быть, сбежала из лаборатории и поселилась на свалке, иногда так бывает, – но на ту, что я когда-то похоронил, она была очень похожа. Ее белая шерстка блестела. Продолжая петь, Павлуша взял ее в руки, – я видел, как дрожат ее усики, – а потом впервые расправил свои полупрозрачные крылья. В золотисто-зеленой влажной поверхности, точно в сказочном лесном озере, отразился луч солнца, на миг меня ослепив. Я зажмурился, а когда открыл глаза снова, Павлуша лежал неподвижно, уткнувшись в мусор лицом. Сработал ошейник: чтобы не улетел.