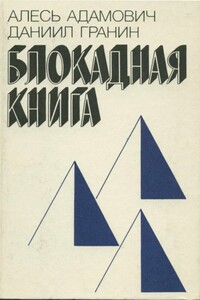Немой | страница 4
А с Францем еще и такого жди: подстрелит сдуру, никак не натешится полученным шмайссером, возится, как с игрушкой, заряжает, перезаряжает. На Отто смотрит, как бы жалея его, у старика всего лишь винтовка. С ними, с этой девицей, по-ихнему разговаривает, хихикают, не над Отто ли? Когда успел и где так насобачиться по-русски? У Отто вон какая фамилия, почти славянская. Но он их язык учить не будет.
2
Присмотревшись к немцам, которые поселились в их избе, послушав, что соседи рассказывают про своих постояльцев, Полина действительно перестала бояться. Нет, страх, ужас перед тем, что немцы натворили в соседних Борках и Каменке, не уходил, давил. Но не Франца же ей бояться, этого дылду-парнишку, которому трудно с собственными руками-ногами справиться, похожего на вывалившегося из гнезда ястребенка? Шестнадцать лет — это шестнадцать лет. Именно столько исполнилось Полине в январе. Так хочется верить в лучшее. Ну, а немцу этому — намного ли больше? Хотя и напялил мундир, ремнями и какими-то термосами обвешан, как огородное чучело, с автоматом и спать ложится, воняет лошадиным потом и какими-то помадами, одеколоном. Без смеха посмотреть на него не удается. И все время видишь его голубые глаза. Даже спиной чувствуешь.
Стоило ей одеться по-людски, нос сполоснуть, как тут же женским чутьем поняла: этот парень ее, трудов больших не понадобится. Правда, он немец, и совсем не те времена, когда на вечеринках играли в такие игры. Но шестнадцать есть шестнадцать. Ее внезапное преображение — повод для веселых, шутливых переглядываний. Будто разыграли они кого-то третьего. И все еще разыгрывают — старого Отто, например. Так его жалко — с его тусклыми, безразличными глазами, индюшечьей морщинистой шеей. Умереть можно, слушая, как они, старики — Отто с матерью Полины, — беседуют. Старуха обращается к нему, как к глухому. Видно, ей кажется, что громкие слова чужого языка ему понятнее.
— Пан, а пан, воды теплой надо, бриться, говорю, будете? Что фронштейн, что фронштейн: я говорю, голиться будете?
Часть жителей заранее убежали в лес, на болото. Живы они, нет — никто не знает. Везде немцы предупреждают: кого в лесу застанут — всех постреляют. А в деревне все-таки не так страшно. Но тоже страшно. И еще как! Петуховцы, кто остался в своих хатах, пользуются любым поводом, случаем, чтобы узнать, услышать от соседей успокаивающие слова, новости. Друг другу с надеждой сообщают: а вроде ничего, не лютуют, на каждом шагу: «данке! данке!», не похоже, что задумали что-то благое. (По-белорусски «благое» — это «плохое».) Можно видеть, как мирно моются, полощутся немцы в просторном дворе Францкевича у колодца, дети им поливают спины холодной водой: оханье, смех. Всех поражает, как часто и помногу они едят. Целыми днями над деревней стоит чадный дым из печных труб: приготовишь им ранний завтрак, тут же ставь второй, тут же обед и еще полдник — и так до поздней ночи. Как в прорву, как на погибель едят. Ну, да только бы людей не трогали. Продукты у них свои есть. «Свои» — те, что нахватали в других селах: свиней, гусей на подводах везут, муку и даже картошку выгребли.