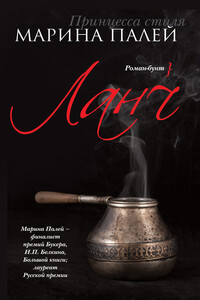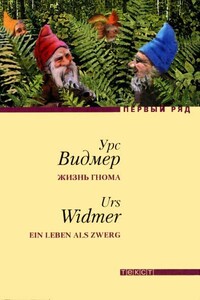Сизиф | страница 27
— Не думаю, чтобы я в чем-нибудь нуждался.
— Тогда зачем ты здесь?
— Где же мне быть?
— На своем вечном месте, среди дураков и нелюдей, хотя ты им и не чета.
— Ты унижаешь себя этой легковесной мыслью.
Не хватало как будто какого-то пронзительного слова, оплеухи, которая оборвала бы тягостную перепалку.
— Да отчего же? Я говорю о соразмерности. Прометей вот, например, с его деятельной любовью к человечеству, скандалами с начальством, угрозами разоблачений, был абсолютно нестерпим. Его еще стоило бы погонять в горку с тяжелым грузом.
— Стоит ли об этом говорить? Хитрость изжита, разве ты не знаешь? Даже хитрость Прометея, хранящего тайну богов. Поссорились, помирились, опять поссорятся… Создадут нас вновь, могут опять уничтожить. Ты упомянул о любви… Почему бы человечеству не полюбить себя самому, себе не помочь? Я тоже человек, сердце мое состарилось еще тут, среди вас.
— Хочешь рассказать?
— Еще один миф?
— Вот именно. Не мусолить старый, а убить целиком.
Артур думал, что слово «убить» не должно понравиться греку, но тот только неслышно вздохнул.
— Повернуть историю культур, судьбы народов… Новые жертвы, новые войны. Потом он станет новым древним мифом. Если старый живет так долго, должно быть, пользы в нем больше, чем темноты. Стоит ли твое любопытство новых разрушенных судеб? Испытаний, которых люди не просят, которые уже переживают в избытке.
— Значит, ты на моем месте удержался бы?
— Я бы смирил себя, да.
— Не за это ли тебя наказали?
— Меня не наказывали.
— Эй! Вот и новый миф. В старом Сизиф провинился перед людьми и богами и был приговорен к вечной муке.
— Ну, пусть будет по-твоему. Почему ты не продолжаешь?
Это и была долгожданная затрещина, положившая, кстати, конец их первой встрече, так как с этим вопросом Артур остался один. Ему было не по себе, он с радостью забыл бы свои впечатления от беседы, если бы не один пункт, мелькнувший в споре относительно незаметно, а теперь вобравший в себя всю его разрушительную суть. Загадку неразделенной любви человечества к самому себе можно было для простоты изложить так: что же, мол, до тебя никто не додумывался потревожить покой ранних космогоний? Разумеется. И для забавы, и от отчаяния, так что в конце концов человечество перестало читать. Испуганные неблагополучием современности, мы отправляемся в глубину веков, чтобы посмотреть, не пропустили ли в исходном чертеже мироздания белое пятно, которое служит причиной нынешних недоразумений. Отыскав какой-нибудь пробел, являющийся на самом деле не чем иным, как изъяном нашей ленивой памяти, мы засоряем цивилизацию еще одной версией, и каждый новый пересказ создает видимость прояснившихся начал и многообещающего развития в будущем. «Ты понимаешь ли? — Да, да! Как это верно! — А об этом ты еще не слышал? — Нет, расскажи». Результаты же таковы, что человечество теряет все стимулы, а элементарные реакции ослабевают, потому что необходимы все более сильные раздражители. Единственной активной силой остается тяга к разрушению. Было сказано: убивать нельзя. Потом оказалось, что убивают несметными количествами, и тут уж было не до принципов, следовало хотя бы громко заявить, что много убивать нельзя. Но пережив катаклизм, вернувшись к разумным прежним нормам, мы обнаруживаем, что закон больше не говорит — убивать нельзя, а только что убивать нехорошо. Что будет следующим прояснением? Много убивать нехорошо?