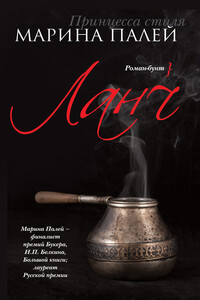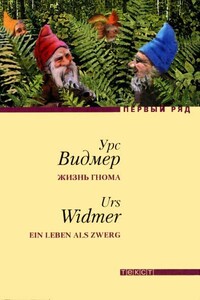Сизиф | страница 28
Грек напомнил о том, что ничтожное изменение первооснов может быть чревато новыми путями развития культур, новыми войнами и жертвами, даже не спрашивая, способен ли Артур совершить такое усилие, сравнимое разве что с попыткой статуи сдвинуть брови. Но он, по всей видимости, не знал, что необходимая для этого поглощенность задачей, даже сравнимая с пресловутым горчичным зерном, приводит ныне лишь к короткому шороху песчинок, скользнувших по крыльям мраморного носа.
Мысль о тщетности любых усилий была знакомой, хотя в этот раз давила тяжелее, чем обычно. Гость заставил еще раз спросить себя, зачем он облекает свою глубоко житейскую нужду в эпическую форму, давно служащую людям совершенно для иных целей. И неохота отвечать была ответом катастрофическим. Для смутной задачи, которую Артур пытался разрешить, ни новая версия мифа, ни увлекательное повествование были не нужны.
Он вернулся к книгам, чтобы поискать, не упустил ли чего, и вновь задержался на элевсинских таинствах; на тех секретных священнодействиях, совершавшихся в предместье Афин в честь Деметры, Коры и Диониса, без которых непосвященному никак нельзя было спускаться в Аид, если он собирался вернуться к живым; на тех жутких, неприличных, лишающих рассудка, но и просветляющих его в чем-то таинствах, за разглашение которых грозила смертная казнь. Общеизвестный смысл мистерии состоял в страстях богини плодородия и земледелия Деметры, чью дочь, деву Кору, похитил властелин подземного царства Аид, сделав под новым именем Персефоны своею женой и совластительницей. Конечное, завоеванное страданием и бунтом богини-матери торжество выразилось только в том, что треть года Персефоне разрешалось проводить с нею на земле. Но где-то в средоточии отчаяния, на полпути к царству мертвых образы матери и девы начинали совмещаться с другой жертвой — растерзанным и возрожденным богом производящих сил Дионисом, сыном Зевса и Деметры, как и сама Кора. Безумие и неистовство, связанное с его культом, одно только и могло, кажется, открыть человеку дверь к этим тайнам, дать ему возможность в литургическом прозрении переступать порог между двумя мирами.
Разгадать со стороны скрытое, сложное значение элевсинских таинств было, конечно, невозможно, но Артур острее, чем прежде, почувствовал одно мгновение в долгой мистерии: мрак и тишину сентябрьской ночи, под небом которой остаются покинувшие храм после первой трагической части таинств — большинство, лишенное ужаса и счастья причащения; безмолвная толпа, ждущая в напряжении хоть малого знака о свершившемся чуде, не слышащая ни стрекота кузнечиков, ни кваканья лягушек на пруду, ни редкого жалобного крика ночной птицы.