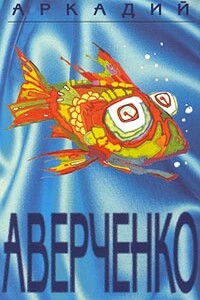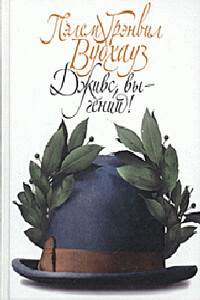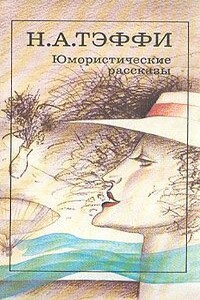Экспедиция в Западную Европу Сатириконцев: Южакина, Сандерса, Мифасова и Крысакова | страница 31
— Сандерсъ, милый!.. — захлебываясь, бормоталъ онъ. — Сбросьте со стула мой жилетъ… ботинки — они за дверью… Я живу, Сандерсъ!.. Одну ботинку бросьте мнѣ сюда на простыню — я ее не столкну… такъ. Что за масса волосъ на вашей головѣ. Сандерсъ!.. Какой ростъ!..
Я подумалъ, что онъ бредитъ, но его мозгъ работалъ, какъ никогда; въ каждомъ словѣ больного сквозилъ разсчетъ, сознаніе цѣли и отвѣтственности за свои поступки.
— Чистота и штрафъ, чистота и штрафъ, — скороговоркой шепталъ онъ. — О-о-о, если бы только чистота… А? Сандерсъ? — больной подмигнулъ маленькими заплывшими глазками. — Вытереть бы наши ботинки о занавѣси? А? Рискнете, быть можетъ?.. Самому красивому изъ нашей компаніи подобаетъ быть самымъ смѣлымъ… Ну, не надо… Можетъ быть усну и такъ.
Онъ потянулся съ видомъ нравственно удовлетвореннаго человѣка и, бросивъ послѣдній взглядъ на разбросанные по полу предметы, опустился на подушки.
Но тотчасъ же застоналъ снова — на его глаза надвинулся чистый, бездушный потолокъ и ничего болѣе…
Больной сбросилъ съ себя одѣяло и съ хриплымъ стономъ спустилъ съ кровати босыя ноги. Онъ задыхался. Потомъ вдѣлъ ступни въ рукава пиджака и заковылялъ по полу, мелкими шажками, насколько позволяли размѣры пиджака.
Злая иронія! Когда я посмотрѣлъ позже на спинку его пиджака, она была блестящей, но чистой.
— Всюду чистота, всюду аккуратность, — безконечно-устало прошепталъ страдалецъ. — Мѣщанство, мѣщанство, мѣщанство…
— Ложились бы, Крысаковъ.
— Ложиться? — онъ посмотрѣлъ на меня далекимъ невидящимъ взглядомъ. — Ложиться, Сандерсъ?.. Хорошо… я лягу.
Было видно, что его измученный мозгъ страшно работалъ, съ трудомъ ворочая громадную, какъ валунъ, мысль, протаскивая ее по извилинамъ, цѣпляясь и скребя стѣнки черепа.
Мрачная улыбка зазмѣилась вдругъ на его губахъ.
Не говоря ни слова, поднялъ онъ башмакъ и вытеръ его о наволочку своей подушки, потомъ другой…
— Что съ вами? — воскликнулъ я, пораженный какъ его поступкомъ, такъ и выраженіемъ злораднего удовольствія, преобразившаго его лицо.
— Ничего особеннаго, Сандерсъ… Ничего особеннаго, милый, дорогой другъ, согласившійся принять участіе въ такой сомнительной компаніи, какъ всѣ мы… Ничего.
Онъ смаковалъ свое торжество, за-одно любуясь моимъ недоумѣніемъ. Потомъ сдѣлалъ по направленію почернѣвшей подушки церемонный жестъ и шаркнулъ пиджакомъ.
— Битте-дритте. Надѣюсь, господа нѣмцы, я имѣю право пачкать свою подушку — нихтваръ? Хе-хе… — Онъ засмѣялся звонкимъ, злораднымъ смѣхомъ и съ неожиданнымъ проворствомъ зарылся подъ одѣяло. Передъ тѣмъ какъ опустить голову, долго смотрѣлъ на подушку любовнымъ отеческимъ взглядомъ.