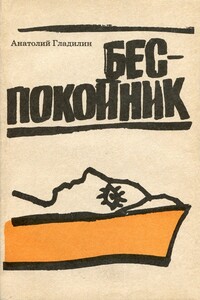Меня убил скотина Пелл | страница 43
…Верно. Не обязан. Но Пелл должен был знать — на то есть статистика, — что увольнение на Западе человека после пятидесяти лет морально равносильно смертному приговору, обрекает на безработицу и нищету. За что?
Нет, Пелл знал. Поэтому и готовил увольнение втайне, как убийство из-за угла. И убежден, паскуда, что останется безнаказанным.
Поехать в Гамбург. Застрелить эту жирную скотину. Подождать около дома. У проходной на Радио. Или. Ну тут много вариантов. Хелло, мистер Пелл, как поживаете? Не припоминаете? Я Андрей Говоров. И четыре пули в живот. За Лизку. За Алену. За Дениса. За Киру. За всех, кого когда-то где-то на земном шаре выбросили на улицу. А потом Уину и Лоту: «Хватит мокнуть в луже! Вставайте, я больше не стреляю. Вызывайте полицию».
Говоров часто обдумывал эту поездку в Гамбург. В деталях. С подробным диалогом. Тешился сладкой мечтой. Не купит он билет и не снимет в Гамбурге гостиницу. И не потому, что боялся, — чего бояться? Европейской тюрьмы с газетами, книгами, цветным телевизором? Там его еще какой-нибудь профессии обучат, например шить перчатки, и как раз до пенсии он дотянет — тоже, между прочим, решение проблемы. Нет, тут срабатывал инстинкт волка, которого гонят на красные флажки: лучше под пули, но за флажки не положено! Традиция, впитанная с молоком матери. Кодекс чести российской культуры. Русского писателя можно убить, и это, увы, случалось не однажды. Но русский писатель никогда не может быть убийцей. Говорову предстояло уйти без сатисфакции.
III
За четыре года до ЭТОГО
Виктор Платонович сидел в студии у техника-режиссера Толи Шафранова и распивал с ним чай, что было давно сложившимся ритуалом: к приходу Виктора Платоновича Толя химичил какую-то особую заварку. Обычно чаепитие перерастало в бесконечный треп на философские, театральные или литературные темы, пока взбешенный Говоров не врывался в студию с воплем: «Ребята, ваше студийное время кончается!» Толя делал вид, что он тут ни при чем, а Вика невозмутимо отвечал одной и той же фразой: «Андрей, зануда, опять работать заставляет».
На этот раз Говоров не торопил. Закрывшись в своем кабинете, он перечитывал скрипт, который Вика принес для записи. Вика комментировал стенограмму обсуждения в московском Доме литераторов романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго». На этом собрании, состоявшемся почти тридцать лет тому назад, Бориса Пастернака исключали из Союза писателей. Стенограмму опубликовал один эмигрантский журнал, и потом про нее все забыли. Когда Вика раскопал этот материал, Говоров сразу одобрил заявку — разумеется, о таких вещах надо напоминать нашим слушателям. Говоров был уверен, что Виктор Платонович напишет со свойственным ему тактом и деликатностью, но Вику, что называется, повело… Врезал всем. И за дело — постыдное, мерзкое было собрание. Однако вся беда в том, что выступали и честные, порядочные люди. Что тогда потянуло их за язык? Борис Слуцкий рассказывал Говорову, как его заставили выступать. Убедили, что Пастернаку никто не поможет, вопрос решен на самом верху, а вот спасти московскую писательскую организацию от разгрома — мол, у Хрущева давно на нее чешутся кулаки — Слуцкий может. Потом Слуцкий всю жизнь мучился, не мог забыть позора. Слуцкий умер, но остались другие. Надо ли их казнить сейчас, не подонков, а тех, кто тридцать лет отмывался? У Виктора Платоновича репутация безупречная и авторитет лучшего военного писателя. Его удар будет тяжел. В Москве обидятся. Власти и так делают все для того, чтобы порвать связи между Союзом и эмиграцией. Постоянно выставляют нас врагами и клеветниками. Надо ли нам самим ссориться с нашими теперешними единомышленниками? С другой стороны, Говоров всегда очень осторожно редактировал Вику — только когда Вика повторялся или по забывчивости путался в фактах. Говоров не считал себя вправе навязывать Вике свою точку зрения — достаточно ему потрепали нервы редакторы в Союзе.