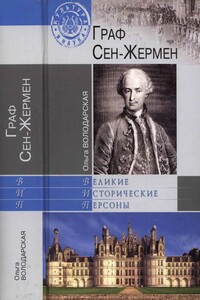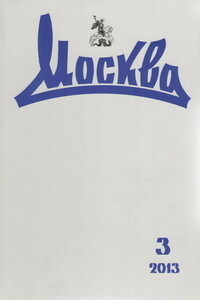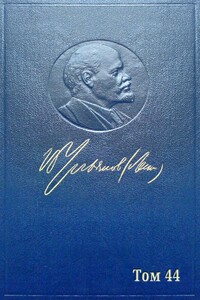Николай Гумилев | страница 74
Его невозмутимое спокойствие, забавлявшее сначала современников («Смеялись над ним: “ну, что нового придумал наш изысканный жираф?..”» — признавался Э. Ф. Голлербах (Николай Гумилев в воспоминаниях современников. М., 1990. С. 18), в отчаянные годы «военного коммунизма» и «красного террора» стало пугать — казалось невероятным то, как этот непостижимый человек умудряется изо дня в день сохранять все то же неизменное и, главное, неподдельное присутствие духа. H.A. Оцуп вспоминал характерный эпизод, происшедший на знаменитом обеде в честь приехавшего в Советскую Россию в 1920 г. Г. Уэллса, происходившем в голодном и холодном Доме литераторов: «… Один почтенный писатель (A.B. Амфитеатров. — Ю. 3.), распахивая пиджак, заговорил о грязи и нищете, в которых заставляют жить деятелей русской культуры. Писатель жаловался на ужасные гигиенические условия тогдашней жизни. Речь эта, взволнованная и справедливая, вызывала все же ощущение неловкости: равнодушному, спокойному, хорошо и чисто одетому англичанину стоило ли рассказывать об этих, слишком интимных несчастьях. Гумилева особенно покоробило заявление о неделями не мытом белье писателей. Он повернулся к говорящему и произнес довольно громко: “Parlez pour vous!”» («Говорите от своего имени» (фр.) — Лукницкая В. К. Николай Гумилев. Жизнь поэта по материалам домашнего архива семьи Лукницких. Л., 1990. С. 232).
Были, впрочем, контрасты и пострашнее, как, например, «разговор… в разгар красного террора, но в кругу настоящих соратников всего старого», который передает Г. В. Иванов: «Кто-то наступал, большевики терпели поражения, и присутствующие, уверенные в их близком падении, вслух мечтали о днях, когда они “будут у власти”. Мечты были очень кровожадными. Заговорили о некоем П., человеке “из общества”, ставшем коммунистом и заправилой “Петрокоммуны”. Один из собеседников собирался его душить, другой стрелять, “как собаку”, и т. п.
— А вы, Николай Степанович, что бы сделали?
Гумилев постучал папиросой о свой огромный черепаховый портсигар:
— Я бы перевел его заведовать продовольствием в Тверь или Калугу, Петербург ему не по плечу» (Иванов Г. В. Собрание сочинений: В 3 т. М., 1994. С. 551).
Гумилев в 1918–1921 гг. — загадка для мемуаристов.
«Фанфарон», — решает Ходасевич и для примера приводит колоритную сценку: «На святках 1920 года в Институте Истории Искусств устроили бал. Помню: в огромных промерзших залах зубовского особняка на Исаакиевской площади — скудное освещение и морозный пар. В каминах чадят и тлеют сырые дрова. Весь литературный и художнический Петроград — налицо. Гремит музыка. Люди движутся в полумраке, теснясь к каминам. Боже мой, как одета эта толпа! Валенки, свитера, потертые шубы с которыми невозможно расстаться и в танцевальном зале. И вот, с подобающим опозданием, является Гумилев под руку с дамой, дрожащей от холода в черном платье с глубоким вырезом. Прямой и надменный, во фраке, Гумилев проходит по залам. Он дрогнет от холода, но величественно и любезно раскланивается направо и налево. Беседует со знакомыми в светском тоне. Он играет в бал. Весь вид его говорит: “Ничего не произошло. Революция? Не слыхал”» (Николай Гумилев в воспоминаниях современников. М., 1990. С. 205–206).