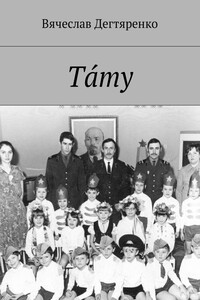Николай Гумилев | страница 54
Между тем обыкновенное внимательное чтение акмеистического манифеста Гумилева сразу ставит перед историком литературы целый ряд проблем, не лишенных даже парадоксальности, — особенно если вспомнить о некоторых обстоятельствах, сопутствующих написанию этого любопытнейшего документа.
Гумилев называет акмеизмом «новое литературное направление». Исходя из его пояснений, мы можем сделать вывод, что это литературное направление является «высшей степенью»… чего-то. Вопрос в том, что развивается здесь до «высшей степени», у Гумилева остается без ответа, а в ответе и заключается вся смысловая «соль» термина.
Правда, в рецензии на книгу стихов С. М. Городецкого «Ива» (1912) Гумилев, говоря об акмеизме, переводит исходное ακμη несколько иначе — «расцвет всех духовных и физических сил», но, во-первых, такой перевод очевидно неточен — греческое ακμη предполагает «превосходную степень» как таковую, без конкретизации дополнения. Во-вторых, тот смысл, который затем выводится — «литературное направление, состоящее из поэтов, находящихся в расцвете духовных и физических сил», — может трактоваться весьма широко. Так, например, A.A. Блок видел здесь… попытку авангардистского эпатажа: «… Гумилев… написал в скобках, в виде пояснения к слову “акмеизм”: “полный расцвет физических и духовных сил”. Это уже решительно никого не поразило, ибо в те времена происходили события более крупные: Игорь Северянин провозгласил, что он “гений, упоенный своей победой”, а футуристы разбили несколько графинов о головы публики первого ряда, особенно желающей быть “эпатированной”; поэтому определение акмеизма даже отстало от духа нового времени, опередив лишь прежних наивных писателей, которые самоопределились по миросозерцаниям (славянофилы, западники, реалисты, символисты); никому из них в голову не приходило говорить о своей гениальности и о своих физических силах; последние считались “частным делом” каждого, а о гениальности и одухотворенности предоставлялось судить другим» (Блок A.A. Собрание сочинений: В 8 т. М.—Л., 1963. Т. 7. С. 180). Блок, конечно,