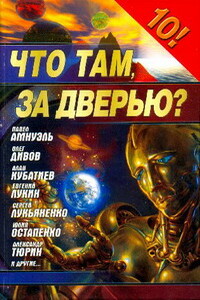Хроники Бастарда: Ив | страница 32
То, что она выбрала наиболее перспективного… его брата, осознание этого, ничего не меняло. Он любил её. Он жил ей. Даже в своём новом мире. Мир оказался меньше, чем можно себе представить. Слишком тесным и слишком пустым — без тех, кто был дорог в той, другой жизни. Новая жизнь, новые ощущения слишком быстро приелись. Быстрее, чем Риган мог себе представить. Восприятие, осязание стали ярче, отчаяннее, в том числе и тоска по тому, что осталось за чертой. Человеческие чувства, усиленные многократно, сводили с ума. Чувства к ней. Тоска по брату. Осознание того, что назад дороги нет, и никогда не будет. Неприятие того, кем он стал. Звериная сущность, рвущаяся на свободу.
Это было гораздо страшнее, чем можно себе представить. Он знал, что ему больше нет места в их мире, и всё-таки он вернулся. Вернулся, чтобы увидеть…
Миссис Бланш Браун-Линтон Эванс.
1799–1821.
Любимой жене.
Дорогой дочери.
Он отвернулся: это было слишком больно. Больно — тщедушное слово для такиех ощущений: сердце словно рвало на части, а каждая клеточка тела собирала лишь пустую физическую оболочку — сосуд, до краёв заполненный отчаянием. Риган не представлял, какой была бы боль, оставайся он человеком, но это было невыносимо. Ветер взметнул сухие листья, швырнул в лицо потоки холодного воздуха и только тогда он поднял глаза на кладбищенского сторожа, переминавшегося с ноги на ногу, зябко кутающегося в хлипкий плащ. Старик закашлялся и Риган бросил взгляд через его плечо, в темноту кладбищенских тропинок.
— Домой бы вам, лорд Эванс, — старик снова закашлялся, — осень нынче очень холодная. Ещё заболеете, не дай Бог…
— Когда это случилось? — сухо спросил Риган, будто бы не слышал его последних слов.
— Да две недели как похоронили, — отозвался старик и поплотнее закутался в старую продуваемую всеми ветрами тряпку, — ваш брат сам не свой был, да и сейчас… говорят, как с цепи сорвался. Путается невесть с кем, пить начал…
Под тяжёлым взглядом старик осёкся и спешно забормотал извинения, но Риган уже его не слышал. Вложив в его руку золотую монету, Эванс молча направился к выходу. Сквозь свинцовый саван туч не проникала даже частичка лунного света. Всё будто погрузилось в бесконечную, непроглядную тьму. А боль между тем не ушла, она становилась только сильнее: рвала душу на части, заставляя думать только о том, как можно избавиться от этого кошмара. Но страшнее всего было осознание того, что это чувства, разделённые с братом. С тем, кто по-прежнему был слишком дорог. Чья боль жгла как своя собственная. Уничтожить это было можно только одним-единственным способом. И Риган решил не медлить.