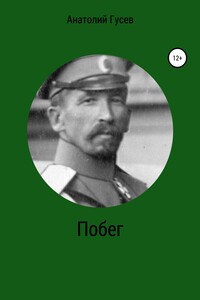Реквием по живущему | страница 65
Так говорил мой отец, вспоминая.
А Одинокий от этого смеха вроде как побледнел, стал со стула, отыскал в углу кадку, поднял крышку, зачерпнул ковшом внутри и поднес лавочнику воды, а когда тот напился и растворил в ней свой горький смех, сказал: «Верни бумагу, верни — сразу полегчает». А тот замотал головой и поперхнулся, и чуть было снова не ударился в хохот, но все ж таки совладал со своей неспокойной спиной и сказал: «Думаете, я по нему плакать буду? Да я на него плевать хотел. Плевать мне на этого очкастого борова!.. И на рога его плевать! Я, может, очень даже рад, что так оно все приключилось!.. Вам-то почем знать, что у меня на сердце?.. Может, у меня счастье на сердце. Такое счастье, что и на убытки мне наплевать! И на вас наплевать... Уж это точно, что наплевать... На вас-то, положим, мне всегда наплевать. Так наплевать, что возьму вот и впрямь бумажку вам задарма подарю! Ага! А что? Я могу. Что, не верите? Чего зенки вылупили? Не ве-рите!.. А вот коли не верите, так и не стану дарить! Да и с какой такой необходимости? Лучше уж отдам городовому и скажу еще, что мальчишка, мол, подкупить пытался — это чтоб разом обоих в острог укатали, а еще ловчее — прямиком на каторгу, в Сибирь! Слышите, олухи? В Сибирь да в снега по колено! И кто сказал, что он мне друг? Плевать мне на дружбу! На нее — тоже! Не верю я ни в какую дружбу. Не желаю дружбы! И разве я ему виноват, что женился? Сам я вон до седых волос дожил, до гула в мозгах, а все не женат. А ему будто приспичило... А эти-то! Неужто ж вы и вправду решили, что в глупой бумажонке дело? Да кому она нужна! Да я б и на тыщу бумажонок не взглянул, коли б спровадить его нужды не было! Коли б не требовалось свою подлость, как срам, от людей той бумажкой прикрыть! А они, гляди-ка, о себе и возомнили, а сами-то — засранцы. За-сран...»
Но тут Одинокий, вскочив на ноги, швыряет ему остатки воды в лицо, хватает за грудки и что-то шипит. И мой отец, плохо разобрав, о чем это лавочник там ругался, видит вдруг, что Одинокий подпер тому ж глотку кинжалом. Отец простирает к ним руки, готовится что-то сказать и оторвать Одинокого от криво ухмыляющегося, мокрого лавочника, но внезапно кто-то стучит снаружи в дверь, и они застывают, прислушавшись. Стук повторяется вновь, немного выжидает, а потом уже не смолкает вовсе, и лавочник тихо говорит, опасаясь качнуть залитой своей головой: «Бесполезно. Она все равно не уйдет. Наверно, со своего двора нас заметила».— «Она? Ты сказал — она?» — переспрашивает Одинокий. «Его жена»,— отвечает лавочник, и Одинокий, поразмыслив, вкладывает кинжал в ножны и говорит: «Отопри».— «Только не надо при ней...— просит лавочник, отряхивая с рубахи воду. У него дрожит подбородок, по телу мечутся руки.— Она... Подготовить бы надо. Я сам... После... А?» — «Хорошо,— говорит Одинокий.— Потом дотолкуем».— «Ага. Конечно! Конечно, потом»,— часто и как-то больно уж некрасиво, уродливо повторяет тот, наскоро вытерев голову сорванным с вешалки полотенцем, и отец в изумлении думает, что прежде страха в нем, в русском, не было, даже когда кинжал ему к горлу приставили — и то не было, а вот, поди ж ты, стоило стук услыхать, как разом залебезил. С чего бы это?