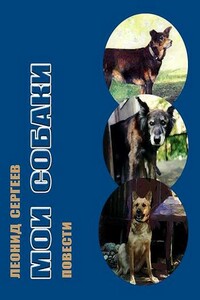Реквием по живущему | страница 66
И тут он видит просторную голубую сорочку с открытым рукавом и расстегнутый ворот с жаркой, покорной ее шагам свободой на груди. Женщина идет к ним уверенной поступью, крепкие ноги ее обуты в тяжелые мужнины сапоги с коркой подсыхающей грязи, а на юбке желтеет незамеченная соломинка. Глаза у нее большие и синие, такие синие, что, заглянув в них, отец мой признается себе, что раньше знать не знал, что такое настоящая синева...
«День добрый,— здоровается она, ничуть не стыдясь незнакомцев, и они оба что-то невнятно бормочут в ответ.— По-русски-то хоть разумеют?» — спрашивает женщина у хозяина лавкр!, а тот суетится вокруг нее, сторожа ее плечи руками, словно не решаясь коснуться, и быстро-быстро тараторит: «Да... Понимают... Это они так... Смутились чуток... Да ты не обращай на них внимания! То есть нет, прости, напротив! Позволь представить тебе моих друзей... Это вот... Черт, из головы вылетело! А вот этот... Э-э... А впрочем, это не к спеху, это обождет. Ты вот что... А-апчхи!! Проклятая простуда... А я тебя и не ждал, хотел вот тут немножко прибраться, потому и закрыл. Ты бы, знаешь, могла хоть в окно постучать, а то мы здесь... Неловко малость получилось...» — «Это меня тебе неловко?» — женщина вскидывает брови. «Что ты! Бог с тобой! Как говорится, милости просим, в смысле — всегда рады, так что пожалуйста... Да ты проходи, проходи»,— сыплет словами лавочник. «Куда ж дальше проходить-то? К стене, что ль?» — «Ах нет, ха-ха, зачем же к стене, к стене не нужно. Ты стой, где стоишь, по-моему, вполне удачно. Очень даже славно, когда ты вот так здесь стоишь... Да не обращай на них внимания — дикари, местные аборигены, не понимают ни бельмеса».— «Да ведь ты мне только что сказал...» — брови ползут еще выше по крупному гладкому лбу. «Ну да... Шутка! Разыграть хотел. Да и дьявол их разберет, что они там понимают... Может, и в самом деле не бельмесят, а может, и лукавят. Одним словом, с ними лучше поостеречься, ухо, то есть, держать востро... Да, так о чем ты? Зачем, говоришь, пожаловала?» — «Я-то? — нараспев произносит она, а сама уж от него отвернулась и разглядывает обоих чужаков, и во второй раз за сегодняшний день отец признаёт в Одиноком юнца и тут же робко встречает ее синеву, тонет в ней и тихо, беззаветно служит вечную эту, синюю минуту ее смелости. Мутно, сонно размышляет про то, что смелее взгляда, чем у женщины, принадлежащей зараз двум мужчинам (конечно, это уже в прошлом, принадлежала-то она раньше, просто сама о том еще не ведает и, стало быть, по-прежнему принадлежит обоим, хоть одного из них два дня назад поглотила пропасть, а второму сейчас не принадлежат даже собственный язык и собственные поджилки), смелее взгляда, чем у падшей женщины, ему никогда и ни в ком не найти, как не найти ни в ком столько гордости; только чем она так горда? Неужто грехом своим?..— А я и сама теперь не вспомню, зачем пришла. Вы уж извиняйте, что еще в дверях вам не доложилась. Учту наперед. Бывайте здоровы,— кивает она ему, а на щеках алеет разозленный румянец.— Прощайте и вы, господа аборигены».— «Хи-хи, никак обиделась? И чего тут сверчать! Ну ты того — не глупи. Мы ж с тобой по-свойски, гю-соседски то бишь... Да и что это ты вдруг нос задирать! Людей бы чужих постеснялась. Они хоть и лохматые, однако ж тоже ведь трепаться умеют... Ну, погоди ты... А впрочем, нет, иди... Ладно. Потом. Потом с тобой уладим»,— сбивчиво частит лавочник, провожая ее к выходу, а когда дверь с грохотом захлопывается и опускается засов, какое-то время не слышно ни звука, и у отца на лице пробуждается тревога. Он глядит на Одинокого, и тот опять у него на глазах превращается из щуплого юнца в самого себя, досадливо хмурится. Потом раздается слабенький, с шепоток, стон, и к ним направляются старые, шаркающие шаги.