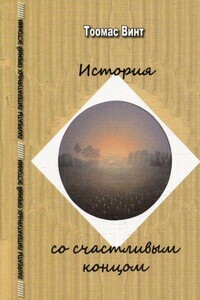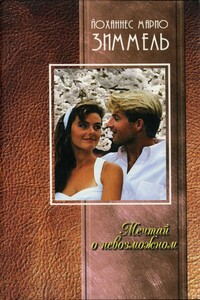Реквием по живущему | страница 64
И только теперь мой отец понимает, что палец передвинут к самой рукояти и что курок спущен, и самым последним понимает это лавочник, и белое бежит назад у него из-под ногтя, а через несколько мгновений проступает на плотно сжатых скулах, и лишь тогда он опускает взгляд, принимается изучать свою кисть, потом отставляет ее от себя подальше, словно измазавшись в дегте, и с отвращением отодвигает пистолет на угол стола. Он тяжело дышит и часто хлопает ресницами, да, им видна его растерянность, так что отец мой снова думает о том же: его-то больше нашего, поди, приперло. Небось, простить себе не может, что не кликнул околоточного. А Одинокий говорит: «Коли все обошлось, так, может, поперву рассказ послушаешь? Тогда я, пожалуй, начну...» И после недолгой заминки (отец мой облегченно выдыхает всю тяжесть из груди, лавочник шмыгает носом, сцепляет в замок руки и нервно ищет им место — колено, стол, живот, колено, стол,— а Одинокий не делает ничего, только чуть выше столбит свои острые плечи и, искоса взглянув на отца, на мгновение становится похож на того, кем он, в сущности, никогда и не был, по крайней мере, не был для тех, кто его сколько-нибудь близко знал, не исключая, кстати, и его самого — на крохотное, с зернышко, мгновение он становится похож на шестнадцатилетнего юнца с пушком на щеках и смуглой тонкой шеей, и отец мой едва успевает подумать о том, что совсем позабыл его имя, как —) Одинокий берется за свой рассказ, который, говорил мне отец, вроде бы его рассказом и не был, а был моим да лавочника, да трех смертей, но отвались у меня язык, коли вру, божился отец, мне б никогда так здорово не рассказать. Понимаешь, говорил мне отец, я себя словно со стороны увидал, со стороны и сверху как бы, а потом повидал те два дня, дождь, змею (и теперь лишь ее разглядел как надобно) и молнию, и видел, как сыпались камни, и видел распоротый ужасом рот, и смытую обвалом кобылу, и уставшего от жизни старика, и пещеру, и ночь, и туман, и свой голод, и карниз на скале, и видел трезвыми глазами пьяную унылую дорогу, и порожний к сегодняшнему утру бурдюк, и впервые так ясно, четко и до конца увидал, насколько же я ни в чем не виноват, но увидал при этом, насколько же меньше моего виноваты здесь помощник лавочника и мой несчастный старик, и снова увиделось мне, что когда виновато небо, на земле ту вину берет на себя самый безвинный — для того словно, чтобы, погибнув, вернуть ее на небо своей бессмертной душой, и оттого-то потом безвинные, но живые, перестают быть безвинными до конца, потому что прогневанное возвращенной виной небо отравляет виной живым их воздух, оно, видать, иначе не может,— в общем, увиделось мне столько всего, что сперва я не увидел слез в своих глазах, а когда понял, что из-за них и лавочника-то толком не разгляжу, хоть он напротив сидит и пятном передо мной расплывается, Одинокий уж и говорить закончил. А когда я влагу с глаз кулаком смахнул, лавочник упал головой на стол, начал спиной подрагивать, а потом и вовсе затрясся, и я подумал, что плачет, но ошибся, потому что скоро мы услыхали хохот, выходит, он трясся от смеха, и я еще подумал: вот оно как бывает. Смех-то горше любого плача быть может. Чуднó оно было. Чуднó и страшно...