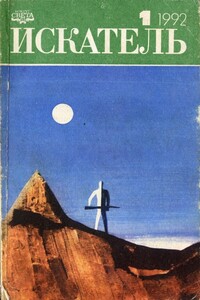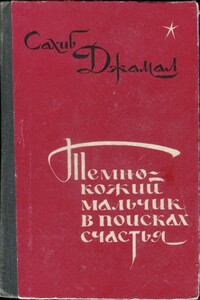Избранное | страница 42
Примерно через полчаса обе женщины встали из-за стола и вышли на середину комнаты, освещенную лампой. Мне подумалось, что природа возжелала утолить мою кручину по бренной красоте и послала мне видение, которое я запечатлел в памяти на всю свою жизнь и смогу припомнить в любую минуту, хоть пятьсот раз Подряд, и в самых мельчайших подробностях. Пятьсот раз — это очень много, во всяком случае для меня, человека с низкой константой воспоминаний. Немало женщин повидал я на своем веку, слава богу, но еще никогда, ни разу, даже на картине, я не видел женщины, которая явилась бы мне такой потрясающе прекрасной, как та, что вступила в светлый круг от керосиновой лампы здесь, в этой заброшенной итальянской таверне. Агатово-черные волосы были у нее, они волной падали на затылок и растекались в стороны упругими прядями. Это придавало ее голове какую-то монументальность, но строго-монументальное начисто пропадало благодаря волнистой плавности контуров. Таким же было создано и ее лицо: величайшая строгость замысла и при этом очаровательная вольность в деталях — брови чуть-чуть лишку черные, глаза чуточку больше, нос чуточку меньше, губы чуточку шире и пухлей, чем следовало бы, и так во всем, и это было именно то, что нужно, это была рука мастера, который, прежде чем вдохнуть душу, не мог отказать себе в удовольствии порадоваться телу. Такой же была вся ее фигура, ее движения, ее манера что-либо делать. Никогда еще не смотрел я с таким волнением и отрадой ни на одно зрелище, картину или пейзаж, как на нее; это была чистая благодать, честное слово, каждый раз, когда я смотрел на нее, мне казалось, что я краду или делаю что-то неподобающее. Должно быть, ненасытная алчность, побуждавшая мои глаза впивать этот образ, была причиной чувства неловкости.
Или, может быть, конфузил меня страх, что она заметит мое обожание и, смутясь, утратит всю естественность? И хотя на самом деле я ползал перед нею в пыли, снедаемый одним только желанием — чтобы она, ради всего святого, оставалась у меня перед глазами, я делал вид, будто она самый обыкновенный человек, и отвечал обыкновенными словами на обыкновенные вопросы. Больше того, я так далеко зашел в небрежении божественным чудом, что предложил сначала нарисовать ее подругу, совершенно неинтересное лицо, которое к тому же без конца меняло выражение.
В результате, конечно, ничего путного не вышло; ибо ничто так не пришпоривает художника, как модель, всем видом показывающая, что она понимает, что с ней делают; да и может ли человек, занятый трудным делом, сделать его хорошо, если другому невмоготу даже спокойно посидеть? Однако она была довольна, и самое главное, из-за чего все это затевалось, чудо природы тоже согласилось мне позировать, после ужина. За широким дубовым столом мы ели минестроне с хлебом, и все время, пока тянулся ужин, я чувствовал, как неистово бьется кровь в моих жилах. И чем больше я глядел на нее, тем сильнее билась кровь, вместо того чтобы утихнуть. Что бы она ни делала — накрывала ли на стол, убирала ли посуду, — все совершалось равно прекрасно. Все, что делает человек, есть свершение, и всякий раз можно спрашивать себя, как этот человек совершает чаепитие, открывание двери, любое движение.